О легендах «Комсомольской правды»
ЛЮДМИЛА СЕМИНА
О легендах «Комсомольской правды»
ЛЮДМИЛА СЕМИНА

Ежегодно 24 мая, в день рождения «Комсомольской правды» её сотрудники коллективно фотографируются у подъезда редакции. Больше семидесяти лет, с 1934 года по 2005 год (до пожара в феврале 2006 года), это происходило у левого подъезда номер 1 издательского комплекса «Правды» на улице Правды, 24, над дверью которого был укреплен монументальный логотип газеты с пятью советскими орденами «Комсомолки». Традиция получила продолжение и на новом месте, у редакционного подъезда на Петровско-Разумовском проезде, 23\1. Такой коллективный снимок вполне можно считать визиткой «Комсомольской правды» всех поколений.
- Как Панкин спасал Окуджаву
- Как Репин был ихтиандром и Робинзоном
- Как Снегирев открыл Северный полюс
- Как Лидия Графова преодолела «абстрактный гуманизм»
- Как Бочаров слагал свою одиссею и проверял прочность человека
- Как Ольга Кучкина защищала человека особенного и озвучивала шестидесятничество
- Как Капа Кожевникова открыла эпидемию приписок в советской экономике...
- Как Анатолий Юрков не торопил, но опережал время
О легендах «Комсомольской правды»
Люди Шестого этажа
Кто есть кто

Эта медаль была выпушена в честь 50-летия «Комсомольской правды». Её получили все сотрудники газеты и участники торжественного собрания в Колоном зале Дома союзов. Есть такая медаль и в редакционном музее.
24 мая 2020 года «Комсомольской правде» исполнилось 95 лет. Ее история — это история страны. И вместе с тем — звездные судьбы множества выдающихся людей, уникальных личностей, оставивших заметный и реальный след в истории и газеты и Отечества, и даже мира. «Комсомолка» всегда собирала талантливую молодежь. Сюда можно было попасть буквально «самотеком», прислав по почте свою дебютную заметку. Студентами-практикантами начинали здесь свой профессиональный путь будущие главреды газеты Алексей Аджубей, Борис Панкин, Владислав Фронин, Владимир Сунгоркин. Кстати, главредами тут нередко становились, не достигнув тридцатилетия или только перевалив за него: и первый Александр Слепков, его преемники Тарас Костров и Иван Бобрышев, и затем вся предвоенная плеяда, от Владимира Бубекина до Николая Михайлова, и военный главред Борис Бурков, и шестидесятники, включая Юрия Воронова, да и другие, «присланные» со стороны оказывались ненамного старше, на пару-тройку лет, — в 50-е Дмитрий Горюнов или в 80-е Геннадий Селезнев.
Шестой этаж знаменитого издательского здания на улице Правда, 24 нередко становился настоящим родным домом и семьей для своих сотрудников. Сюда приходили делать именно журналистскую карьеру и, достигнув высот самоутверждения в самом популярном издании страны, став и сами именем в профессии, оставались здесь навсегда. Василий Песков и Инна Руденко отработали в «Комсомолке» без малого по 60 лет, Ярослав Голованов — 45, Алевтина Левина — от стажера до кончины через 25 лет (уже лауреатом премии Ленинского комсомола за книгу своих блестящих очерков), Леонид Репин, и поныне репортер газеты — 53 года. А вообще в списке сотрудников с сорокалетним стажем работы только за последние годы более пятидесяти человек.
Шестой этаж знаменитого издательского здания на улице Правда, 24 нередко становился настоящим родным домом и семьей для своих сотрудников. Сюда приходили делать именно журналистскую карьеру и, достигнув высот самоутверждения в самом популярном издании страны, став и сами именем в профессии, оставались здесь навсегда. Василий Песков и Инна Руденко отработали в «Комсомолке» без малого по 60 лет, Ярослав Голованов — 45, Алевтина Левина — от стажера до кончины через 25 лет (уже лауреатом премии Ленинского комсомола за книгу своих блестящих очерков), Леонид Репин, и поныне репортер газеты — 53 года. А вообще в списке сотрудников с сорокалетним стажем работы только за последние годы более пятидесяти человек.

23 мая 1975 года. Выпускающая бригада — ведущий и дежурный редактор, ответсек, выпускающие сотрудники секретариата и отдела иллюстрации, дежурные по отделам, авторы публикаций, верстальщики и метранпаж, корректура, бюро проверки, цензор, «свежая голова» — все удостоверили готовность юбилейного номера. Первый оттиск с ротации завтрашней газеты с размашистой подписью ведущего редактора «В свет!» вышел, как обычно, после 22-х часов. Выпускающая бригада прямо в цехе снялась на память.
Отсюда уходили главредами и золотыми перьями в другие СМИ, нередко при этом создавая или преображая их: в «Известия» — сначала командой за Аджубеем, потом командой Льва Корнешова, Николая Боднарука, Андрея Иллеша, Александра Куприянова, Юрия Данилина, Виктора Сагидова и, наконец, командой Владимира Мамонтова; в «Литературку» — командой Юрия Роста, Юрия Щекочихина, Лидии Графовой, Александра Сабова, Юрия Куликова; в «Советскую Россию» — Александр Яковенко, Марина Чередниченко, Владимир Шин, Геннадий Жаворонков; в «Труд» — Олег Жадан и Юрий Совцов, а затем команда Валерия Симонова; в «Трибуну» — командой Анатолия Юркова и Виктора Андриянова; в «Коммерсантъ» — командой Азера Мурсалиева; в «Российскую газету» — в начале двухтысячных уже третьей туда командой Юрия Лепского, Ядвиги Юферовой, Николая Долгополова, Геннадия Бочарова к ставшему там главредом Владиславу Фронину; в «Новую газету» — командой за Дмитрием Муратовым, Сергеем Кожеуровым, Зоей Ерошок, Акрамом Муртазаевым; организатором и главредом газеты «Россия» стал Александр Дроздов;
в «Учительскую газету» — командой Петра Положевца и Ольги Мариничевой; в «Деловой вторник» — Федор Сизый и Леонид Арих, главредом журнала «Юность» — Виктор Липатов. Список, конечно же, далеко неполный… Все названные имена — культовые и в сегодняшней журналистике, их творчество изучают в университетах.
в «Учительскую газету» — командой Петра Положевца и Ольги Мариничевой; в «Деловой вторник» — Федор Сизый и Леонид Арих, главредом журнала «Юность» — Виктор Липатов. Список, конечно же, далеко неполный… Все названные имена — культовые и в сегодняшней журналистике, их творчество изучают в университетах.

«Комсомольская правда» обладала разветвленной сетью корреспондентских пунктов по всему СССР и за рубежом. Собственные корреспонденты газеты являлись реальной силой на местах, своевременно информировали редакцию о положении и событиях в регионах, проверяли письма в редакцию от читателей, писали яркие заметные материалы (иначе их не взяли бы собкорами). Ежегодно весь собкоровский корпус собирали на Шестом этаже для «сверки часов». Доклады, отчеты, оценки, разбор практики, постановка новых задач, общение. И обязательно — фото на память в Голубом зале редакции — с ведущими журналистами этажа. Снимок из 80-х годов. Главный редактор Геннадий Селезнев в центре в первом ряду.
«Комсомольская правда» оказывалась лифтом и в высшие этажи государственного управления. И не только в сфере СМИ. Еще предвоенный главред Николай Михайлов, оставаясь руководителем газеты, был избран первым секретарем ЦК ВЛКСМ и оставался им все годы Великой Отечественной. Борис Бурков, пройдя после «Комсомолки» журналистские руководящие посты в «Правде», «Труде», стал основателем АПН, которым и руководил затем десять лет. Борис Панкин стал основателем ВААП и руководил им до перехода на дипломатическую работу, в которой достиг поста министра иностранных дел СССР. Дмитрий Горюнов и Виталий Игнатенко «рулили» ТАСС, причем, В. Игнатенко одновременно был вице-премьером РФ. Председателем Госдумы Ф С РФ двух созывов стал Геннадий Селезнев. Георгий Пряхин, сменив Виталия Игнатенко, был пресс-секретарем Президента СССР. Валентин Юмашев руководил Администрацией Президента Р Ф; Павел Вощанов и Дмитрий Якушкин были пресс-секретарями Президента Р Ф; Борис Миронов — председателем Комитета по печати РФ; Андрей Крайний — руководителем Федерального агентства по рыболовству. И это тоже далеко не полный список.

Год 1984-й, очередная молодая поросль собкоров, очередное собкоровское совещание на Шестом этаже, очередной снимок на память в легендарном Голубом зале редакции. Главный редактор Геннадий Селезнев в последнем верхнем ряду, седьмой слева. Пожалуй, ни в одной друго редакции не было в те времена такой теплого и неформального журналистского братства.
Среди выходцев из «Комсомолки» — основатель отечественной социологической науки Борис Грушин, основатель и руководитель проекта «Детские деревни SOS» Елена Брускова; основатель и председатель общественного Форума переселенческих организаций Лидия Графова: секретари Союза журналистов России Надежда Ажгихина, Павел Гутионтов, Рафаэль Гусейнов, Леонид Никитинский; секретарь Президиума Союза писателей России, главред журнала «Форум» Владимир Муссалитин и ректор Литинститута Сергей Есин; научный обозреватель и советник Президиума РАН Владимир Губарев; действительный член Академии художеств России, карикатурист Игорь Смирнов; именитые деятели кино и телевидения — заместитель министра культуры РФ и организатор кинофестиваля стран СНГ Константин Щербаков; продюсеры Серогей Кушнерев («Жди меня», «Последний герой») и Константин Смирнов («Школа злословия»), кинорежиссер Михаил Дегтярь, сценарист и художественный руководитель киностудии Нина Аллахвердова; член Академии российского телевидения Михаил Кожухов; ведущий программы «Вести» Сергей Брилев, телеведущий и литератор Андрей Максимов, обозреватель Общественного телевидения России Сергей Лесков. Современная российская литература тоже обязана «Комсомолке» плеядой крупных имен: от Владимира Дудинцева, Владимира Чивилихина, Владимира Орлова, Юрия Додолева, Юрия Роста, Николая Булгакова, поэтов Владимира Сидорова, Алексея Дидурова, драматурга и поэта Ольги Кучкиной до Андрея Тарасова, Вячеслава Недошивина, Александра Потемкина, Владимира Чернова, Николая Андреева, Александра Лапина, поэтов Андрея Чернова, Олега Хлебникова, Марины Князевой, Виктора Злобина, Наталии Моржиной.

Накануне каждого Нового года традиционно проходит тоже легендарный редакционный «капустник», сценарии которого представляют историю «Комсомолки» в сатирическом и персонифицированном виде. Остроумные цитаты «капустников» живут десятилетиями в памяти участников, иные спародированные образы навсегда приклеиваются к персонажам шуток. На этом снимке из 90-х годов два великих обозревателя газеты, которым Союзом журналистов России присвоено звание «Легенда российской журналистики» — Василий Песков (первый ряд, второй слева) и Инна Руденко (четвертая слева).
Юбилей полезен хотя бы тем, что появляется возможность такого «поминальника». И «понимальника». Потому что появляется повод еще раз осознать, среди кого поработать, с кем тесно пообщаться подарила тебе возможность судьба. Кто-то правильно сказал, что Шестой этаж — это отдельная партия в истории страны. У нее есть даже свое название: «Дух Шестого этажа». Это имя родилось в 1973 году, когда главреда Бориса Панкина провожали на работу по созданию ВААП: ему тогда на прощание подарили запечатанную бутылку с нашим воздухом. Дух этот, или как сегодня сказали бы, — аура, менталитет, контент, — неповторим, но он остается в людях «Комсомолки» навсегда, где бы и как бы они не продолжили свою судьбу.
Вячеслав Недошивин. Сбылось именно то…

Вячеслав Недошивин , член редколлегии «Комсомольской правды», редактор отделов морали и права, писем и массовой работы. 1977-86 годы.
Фото Павла Маркина.
Фото Павла Маркина.
Небольшое предисловие от автора, Людмилы Сёминой:
6 июня 2020 года Вячеславу Недошивину, все еще молодому человеку пяти жизней, ныне известному писателю, исполнилось 75. Удивительная, редкая и штучная судьба. Сказать по правде, на мой взгляд, он живой и яркий артефакт истории: без Недошивина уже не представишь ни историю литературы, ни политическую историю 90-х, ни историю журналистики и «Комсомольской правды». Наш с ним разговор и пошел как раз в эту сторону. Попытка создания биографии. Или, скорей, попытка осознания автобиографии. А эпиграф — любимые им слова Александра Блока:
«Все, что человек хочет, непременно сбудется. А если не сбудется, то и желания не было, а если сбудется не то - разочарования только кажущееся: сбылось именно то...»
- Что жизнь кончена понимаешь в доли секунды, - сказал как-то Недошивин в огромном интервью в «Общей газете». - Вспышка. Взрыв. И привет!.. Перелом позвоночника и четыре месяца сначала в питерской больнице, а потом на полу в своем доме, да на костылях - на кухне. Рубежный, знаете ли, момент, одна жизнь исчезает, а другая — начинается...
6 июня 2020 года Вячеславу Недошивину, все еще молодому человеку пяти жизней, ныне известному писателю, исполнилось 75. Удивительная, редкая и штучная судьба. Сказать по правде, на мой взгляд, он живой и яркий артефакт истории: без Недошивина уже не представишь ни историю литературы, ни политическую историю 90-х, ни историю журналистики и «Комсомольской правды». Наш с ним разговор и пошел как раз в эту сторону. Попытка создания биографии. Или, скорей, попытка осознания автобиографии. А эпиграф — любимые им слова Александра Блока:
«Все, что человек хочет, непременно сбудется. А если не сбудется, то и желания не было, а если сбудется не то - разочарования только кажущееся: сбылось именно то...»
- Что жизнь кончена понимаешь в доли секунды, - сказал как-то Недошивин в огромном интервью в «Общей газете». - Вспышка. Взрыв. И привет!.. Перелом позвоночника и четыре месяца сначала в питерской больнице, а потом на полу в своем доме, да на костылях - на кухне. Рубежный, знаете ли, момент, одна жизнь исчезает, а другая — начинается...
Это Вячеслав вспомнил о взрыве в 1993 году в Финском заливе на, якобы, яхте экс-госсекретаря РФ Геннадия Бурбулиса, у которого он перед тем был пресс-секретарем. Выход в залив на стареньком, с крытой каютой катерке, сенсационно поданном как яхта, был обычной прогулкой, куда его и экс-госсекретаря пригласила одна питерская семья... Об этой истории тогда много писали. В том числе и наши коллеги. Дмитрий Муратов, главред только что созданной из отпочковавшейся ветви КП «Новой газеты», прислал к нему после взрыва Леонида Никитинского, который, как выяснил недавно Недошивин, даже не помнит этой встречи. И Никитинский, и Муратов - это было уже другое поколение журналистов, для которых «лихие девяностые» стали их жизнью. Взрыв интересовал их как факт возможной мести ушедшему от президента Бориса Ельцина соратнику. Они мыслили уже в таких категориях. А для Недошивина это был «этап», конец одной жизни и начало совершенно иной, следующей. Самое забавное здесь то, что Муратов несколькими годами раньше, когда пришел в «Комсомолку», занял там служебное кресло Недошивина, стал рулить вместо него отделом комсомольской жизни. А вот во времени и его понимании разошлись...
Нельзя сказать, что Недошивин фаталист, но ему, как не раз говорил, нравится мысль Льва Толстого, что каждому человеку дается «пять разных жизней». Исходя из такой нумерации, он считает, что живет сейчас свою пятую, самую интересную.
Первая «жизнь» окончилась в тюремной камере Петропавловской крепости, где он попросил запереть его на ночь в бывшем каземате поручика-декабриста Николая Панова. Так в 1986-м был написан им его последний журналистский материал в «Комсомолке» - «Ночь перед казнью». День в день 160-летия казни декабристов. А начиналась его «первая жизнь» за двадцать с лишним лет до этого, когда в «Смене», молодежке Ленинграда, он, 16-летний, стал публиковать первые заметки.
Нельзя сказать, что Недошивин фаталист, но ему, как не раз говорил, нравится мысль Льва Толстого, что каждому человеку дается «пять разных жизней». Исходя из такой нумерации, он считает, что живет сейчас свою пятую, самую интересную.
Первая «жизнь» окончилась в тюремной камере Петропавловской крепости, где он попросил запереть его на ночь в бывшем каземате поручика-декабриста Николая Панова. Так в 1986-м был написан им его последний журналистский материал в «Комсомолке» - «Ночь перед казнью». День в день 160-летия казни декабристов. А начиналась его «первая жизнь» за двадцать с лишним лет до этого, когда в «Смене», молодежке Ленинграда, он, 16-летний, стал публиковать первые заметки.

Вячеслав Недошивин, зам. главного редактора ленинградской молодежной газеты «Смена».
1976 год.
Фото из личного архива В. Недошивина
1976 год.
Фото из личного архива В. Недошивина
После армии пришел туда уже мл. литсотрудником, а через восемь лет, став к тому времени первым замом главного — кстати, Геннадия Селёзнева, - ушел в «Комсомолку» заведовать отделом. В отделе той его жизни работали славные имена газеты 70-80-х годов: обозреватели Виктор Липатов (будущий многолетний редактор журнала «Юность») и Виктор Андриянов (будущий гл. редактор газеты «Трибуна»), Юрий Куликов (будущий зам. главного «Литературки»), зам Недошивина - Владимир Любицкий (будущий главред журнала «Иллюстрированная Россия»). Все кстати, поэты и писатели. А однажды в его кабинете возник «мальчик в белых кроссовках» и с буйной шевелюрой, которого Недошивин сходу услал в Одессу делать первый материал. Это был никому еще неизвестный Дима Дибров. Задание провалил, но, может, это и помогло ему найти себя на ТВ.
- Я никогда бы не расстался с газетой, - говорит Недошивин, - если бы не некоторые обстоятельства. Но видно — судьба...
Он поступил в 1982-м в очную аспирантуру АОН и решил — либо ошеломивший его в юности Оруэлл, либо — никакой диссертации... Тему утверждали в ЦК партии: сошлись на исследовании антиутопий… Так родилась первая в стране научная работа о Замятине, Хаксли и Оруэлле. И девять счастливых месяцев его «второй жизни», когда он «рожал» (часто со словарем) свои переводы на русский и романа «1984», и сказки «Скотный двор» Оруэлла. На «волне перестройки» одним из первых и опубликовал их — еще в 1989-м. Может за дерзость научную и позвали после защиты преподавать на родную кафедру, где он читал курсы истории литературы и литературной критики...
- Это, конечно, была совсем другая жизнь. Светила докторантура, я стал замом руководителя кафедры по науке, доцентом, но, главное, всё стало любимым: литература, библиотеки, архивы, аспиранты, которых надо было вести к защитам, спецкурсы, ученые советы, статьи, которые печатал в «Иностранке»…
- Но всё сломал, наверное, как у многих в стране, август 91-го?
- Да, «революционная волна»! Прервав отпуск после путча, я прилетел с юга в Москву и первым делом помчался в Белый дом.
-Ну, да: помощником госсекретаря, второго лица в государстве, с кабинетом в Кремле... Почему же ушел через два года? устал? Или «ушли»?
- Мне и после ухода Геннадия Бурбулиса предлагали остаться в пресс-службе президента. Но те люди первой волны, в которых я был поначалу влюблен (романтик!), на глазах превращались в обычных партийных чиновников с вереницей лакеев, разговорами через губу, с пышными обедами в «комнатах отдыха» за кабинетами. Становились «победителями». А мой Оруэлл, вопреки здравому смыслу, всегда был беглецом из «лагерей победителей», которые, как считал, неизменно вырождаются. Стало с ними не по себе...
- Я никогда бы не расстался с газетой, - говорит Недошивин, - если бы не некоторые обстоятельства. Но видно — судьба...
Он поступил в 1982-м в очную аспирантуру АОН и решил — либо ошеломивший его в юности Оруэлл, либо — никакой диссертации... Тему утверждали в ЦК партии: сошлись на исследовании антиутопий… Так родилась первая в стране научная работа о Замятине, Хаксли и Оруэлле. И девять счастливых месяцев его «второй жизни», когда он «рожал» (часто со словарем) свои переводы на русский и романа «1984», и сказки «Скотный двор» Оруэлла. На «волне перестройки» одним из первых и опубликовал их — еще в 1989-м. Может за дерзость научную и позвали после защиты преподавать на родную кафедру, где он читал курсы истории литературы и литературной критики...
- Это, конечно, была совсем другая жизнь. Светила докторантура, я стал замом руководителя кафедры по науке, доцентом, но, главное, всё стало любимым: литература, библиотеки, архивы, аспиранты, которых надо было вести к защитам, спецкурсы, ученые советы, статьи, которые печатал в «Иностранке»…
- Но всё сломал, наверное, как у многих в стране, август 91-го?
- Да, «революционная волна»! Прервав отпуск после путча, я прилетел с юга в Москву и первым делом помчался в Белый дом.
-Ну, да: помощником госсекретаря, второго лица в государстве, с кабинетом в Кремле... Почему же ушел через два года? устал? Или «ушли»?
- Мне и после ухода Геннадия Бурбулиса предлагали остаться в пресс-службе президента. Но те люди первой волны, в которых я был поначалу влюблен (романтик!), на глазах превращались в обычных партийных чиновников с вереницей лакеев, разговорами через губу, с пышными обедами в «комнатах отдыха» за кабинетами. Становились «победителями». А мой Оруэлл, вопреки здравому смыслу, всегда был беглецом из «лагерей победителей», которые, как считал, неизменно вырождаются. Стало с ними не по себе...


Рассказывая о своих героях, Вячеслав Недошивин проводит слушателей по открытым им адресам. Экскурсии и прогулки по литературным местам Санкт-Петербурга и Москвы вызывают большой интерес. А Вячеслав профессионально освоил мастерство гида.
Фото Юрия Феклистова.
Фото Юрия Феклистова.
- Так началась твоя какая уже по счету жизнь?
- Журналистика. Наука. Политика. Началась четвертая. Я, на голом месте, попытался создать одно из первых пиар-агентств. Тогда и слово-то «пиар» мало кто у нас знал. И, как ни странно, всё получилось. Пять лет мы работали без выходных и отпусков. С большим удовольствием и искренним увлечением. Креативный труд. Неплохой заработок. Признание коллег. Но однажды остановился посреди собственной жизни и спросил себя: зачем? Дни, недели, годы улетают, а ты работаешь на чужих тебе «дядей»: толстых, сытых, небитых. Словом, бросил всё и ушел, не поверишь, в никуда. Помнишь, поэт писал: «Но видит Бог, есть музыка над нами...» Похоже, она и позвала...
В недошивинском доме больше трех тысяч книг. На стеллажах по стенам, в прихожей, на столе, под столом, у кровати, стопками по квартире. Все больше — мемуары, которые в новые времена всплыли из трех пластов — изданном, но запрещенном; неизданном, написанном когда-то «в стол»; и — изданном далеко и давно за границей. Но чаще скупал совершенно, казалось бы, бесполезные издания: толстенные сборники статей «Диаспора», какая-то история издательства «Посредник», брошюры Цветаевских чтений, тоже состоящие из скучноватых статей специалистов, «Материалы к биографии» того или другого писателя, или - «Труды музея истории»? Очень любил последние тома собраний сочинений (тома писем, которые, как правило, даже не выкупают в магазинах). Именно там он находил подробности жизни литераторов и в примечаниях и сносках - реальные адреса писателей.
- Журналистика. Наука. Политика. Началась четвертая. Я, на голом месте, попытался создать одно из первых пиар-агентств. Тогда и слово-то «пиар» мало кто у нас знал. И, как ни странно, всё получилось. Пять лет мы работали без выходных и отпусков. С большим удовольствием и искренним увлечением. Креативный труд. Неплохой заработок. Признание коллег. Но однажды остановился посреди собственной жизни и спросил себя: зачем? Дни, недели, годы улетают, а ты работаешь на чужих тебе «дядей»: толстых, сытых, небитых. Словом, бросил всё и ушел, не поверишь, в никуда. Помнишь, поэт писал: «Но видит Бог, есть музыка над нами...» Похоже, она и позвала...
В недошивинском доме больше трех тысяч книг. На стеллажах по стенам, в прихожей, на столе, под столом, у кровати, стопками по квартире. Все больше — мемуары, которые в новые времена всплыли из трех пластов — изданном, но запрещенном; неизданном, написанном когда-то «в стол»; и — изданном далеко и давно за границей. Но чаще скупал совершенно, казалось бы, бесполезные издания: толстенные сборники статей «Диаспора», какая-то история издательства «Посредник», брошюры Цветаевских чтений, тоже состоящие из скучноватых статей специалистов, «Материалы к биографии» того или другого писателя, или - «Труды музея истории»? Очень любил последние тома собраний сочинений (тома писем, которые, как правило, даже не выкупают в магазинах). Именно там он находил подробности жизни литераторов и в примечаниях и сносках - реальные адреса писателей.



2016 год. Презентация книг Вячеслава Недошивина в Международном медиа клубе «Импрессум» (Таллинн, Эстония).
Фото Анастасии Мяльсон.
Фото Анастасии Мяльсон.
«Пятая жизнь» Недошивина оказалась куда как беднее на события, чем прежние, но невыразимо более богатой внутренне. Он днями и ночами читал эти книги, запоминал детали, сопоставлял и сравнивал факты в разных источниках и, что совсем уж забавно, - конспектировал их. Жена Галина, случалось, красноечиво крутила пальцем у виска, глядя как он делает «бесполезную работу»: ведь все и так напечатано! Но он три (!) года занимался только этим, живя на редких гонорарах. Девять тысяч страниц только выписок! О дуэли Гумилёва и Волошина, поэтов Серебряного века, вспоминали пять человек, трое из которых были свидетелями — секундантами. Но все — по-разному. Тогда — как всё было на деле? А как и где Ходасевич уходил от жены к Берберовой? А из-за чего покончила с собой поэтесса Анна Мар? Не знаете такой? И он до поры не знал.
Никаких особых планов он не строил. Просто было интересно. И уже ничего не хотелось, кроме всё новых и новых источников. И всё остальное потеряло смысл. По десять часов подряд он «перепечатывал книги» и всё ясней и прозрачней становился ему Серебряный век. Погружаясь в поиски адресов, он продал «Волгу» и пересел на велосипед, на котором проще было найти «в реале» дом, где Пастернак махом выпил «от любви» бутылку йода (еле спасли), где застрелилась юная Надя Львова, соблазненная Брюсовым поэтесса (дар, говорили не меньше, чем у Цветаевой), и где Блок, в Москве, в последний раз видел актрису Волохову, «Снежную маску»? Наверное, это было похоже уже на наркотик или на манию... Его спасла встреча с питерскими телевизионщиками, предложившими написать несколько сценариев о поэтах. Так родился его беспрецедентный 60-серийный авторский телецикл «Безымянные дома». Неизвестные страницы Серебряного века», где он стал и автором, и ведущим. Тринадцать часов эфира! Но главное, что у него уже хватало на это материала. Три года «бесполезного» конспектирования стали капиталом.
Никаких особых планов он не строил. Просто было интересно. И уже ничего не хотелось, кроме всё новых и новых источников. И всё остальное потеряло смысл. По десять часов подряд он «перепечатывал книги» и всё ясней и прозрачней становился ему Серебряный век. Погружаясь в поиски адресов, он продал «Волгу» и пересел на велосипед, на котором проще было найти «в реале» дом, где Пастернак махом выпил «от любви» бутылку йода (еле спасли), где застрелилась юная Надя Львова, соблазненная Брюсовым поэтесса (дар, говорили не меньше, чем у Цветаевой), и где Блок, в Москве, в последний раз видел актрису Волохову, «Снежную маску»? Наверное, это было похоже уже на наркотик или на манию... Его спасла встреча с питерскими телевизионщиками, предложившими написать несколько сценариев о поэтах. Так родился его беспрецедентный 60-серийный авторский телецикл «Безымянные дома». Неизвестные страницы Серебряного века», где он стал и автором, и ведущим. Тринадцать часов эфира! Но главное, что у него уже хватало на это материала. Три года «бесполезного» конспектирования стали капиталом.


Обложка художника А. Малахова для первого тиража знаменитой книги Вячеслава Недошивина «Прогулки по Серебряному веку. Очень личные истории из жизни петербургских домов». Книгу иллюстрировала рисунками и дочь автора Елена Недошивина, изаестный художник-кукольник.
А вот живые деньги на съемки наскребли по сусекам. Чуть позже удалось получить грант Минкульта. И когда по итогам 2003 года, года 300-летия родного Петербурга, ему за показ этого цикла дали «Золотое перо», он, пожалуй, был только удивлен. За что? А счастье жить Серебряным веком?
- Они у тебя не формальные, эти фильмы. Так задумывалось?
- Конечно. Ты ходишь в них и оживают черные и парадные лестницы, мастерские и студии, площади и набережные, флигели и дворы, подъезды и перекрестки. Но это — канва, главное же, география поэзии, связь Промысла и Поступка. Жанр, как кто-то назвал — детектив страстей.
- Они у тебя не формальные, эти фильмы. Так задумывалось?
- Конечно. Ты ходишь в них и оживают черные и парадные лестницы, мастерские и студии, площади и набережные, флигели и дворы, подъезды и перекрестки. Но это — канва, главное же, география поэзии, связь Промысла и Поступка. Жанр, как кто-то назвал — детектив страстей.

Прогулки по питерским подворотням. Портрет Вячеслава Недошивина.
Фото Юрия Лепского.
Фото Юрия Лепского.
- А почему сюжетом выбраны, как ты их называешь, - безымянные дома?
- Вообще-то это из той, «первой» еще, жизни. Мама моя, пережившая блокаду, водила нас, троих детей, по городу и всё показывала: здесь жил Пушкин, который о царе Салтане, а здесь — учился Лермонтов. Сам удивляюсь, но я в 12 лет, в суворовском еще училище, прочел весь только вышедший тогда в 56-м году шеститомник Лермонтова, а за странный характер (не то читал, не тем восхищался!) меня там дразнили «Григорием Александровичем», т. е. - «Печериным». Разве не все у нас растет из детства?..
Так в 1969 году «выросла» у него первая командировка в первой еще газете в Таллин: хотел отыскать еще заброшенную могилу Игоря Северянина. И нашел-таки, с покосившейся табличкой: «Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб». А еще ранее, в 1965, когда проходил службу в армии, прочитав где-то первые публикации о Цветаевой, пришел в Борисоглебский, к ее дому, когда там музеем поэта и не пахло еще - забитая коммуналка с соседями, не впустившими солдатика. Или в 80-е, в Тобольске, в командировке уже от «Комсомолки», дал не оговоренный крюк в двести километров, чтобы в селе Покровском отыскать дом Гришки Распутина, а в Киеве первым делом побежал на Андреевский спуск — к дому Булгакова.
«Этому не научить . Такая одержимость — будто поручение, «странная печать, как бы дарованная свыше», умение ощущать «сияние прошлого»… Это цитата из давнего интервью. Наблюдение «со стороны» того, что сам Вячеслав всегда ощущал в себе и с чем не может не согласиться. И телевидение, кстати, очень удачно «нашло» Славу, потому что помогло ему и другим - своей бесцеремонностью. Ему всегда хотелось «войти» в дома Блока, в квартиру Есенина, где сохранилась, он знал, даже печка, в которой поэт сжег свою первую пьесу. Но как войдешь: живут чужие люди, неловко беспокоить. А телевизионщики - народ без комплексов: нахраписто звонят, сразу бегут искать розетки для софитов, двигают по своему усмотрению мебель и даже требуют от жильцов «не мешать им работать». Теперь и Вячеслав проникал ними в заветные места. Именно так, в квартире Мандельштама на Васильевском, где тот написал про «цепочки дверные» на черной лестнице, он увидел, потрогал их: «И всю ночь до утра жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных...» Стихи жили и через 60 лет после смерти поэта…
- Вообще-то это из той, «первой» еще, жизни. Мама моя, пережившая блокаду, водила нас, троих детей, по городу и всё показывала: здесь жил Пушкин, который о царе Салтане, а здесь — учился Лермонтов. Сам удивляюсь, но я в 12 лет, в суворовском еще училище, прочел весь только вышедший тогда в 56-м году шеститомник Лермонтова, а за странный характер (не то читал, не тем восхищался!) меня там дразнили «Григорием Александровичем», т. е. - «Печериным». Разве не все у нас растет из детства?..
Так в 1969 году «выросла» у него первая командировка в первой еще газете в Таллин: хотел отыскать еще заброшенную могилу Игоря Северянина. И нашел-таки, с покосившейся табличкой: «Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб». А еще ранее, в 1965, когда проходил службу в армии, прочитав где-то первые публикации о Цветаевой, пришел в Борисоглебский, к ее дому, когда там музеем поэта и не пахло еще - забитая коммуналка с соседями, не впустившими солдатика. Или в 80-е, в Тобольске, в командировке уже от «Комсомолки», дал не оговоренный крюк в двести километров, чтобы в селе Покровском отыскать дом Гришки Распутина, а в Киеве первым делом побежал на Андреевский спуск — к дому Булгакова.
«Этому не научить . Такая одержимость — будто поручение, «странная печать, как бы дарованная свыше», умение ощущать «сияние прошлого»… Это цитата из давнего интервью. Наблюдение «со стороны» того, что сам Вячеслав всегда ощущал в себе и с чем не может не согласиться. И телевидение, кстати, очень удачно «нашло» Славу, потому что помогло ему и другим - своей бесцеремонностью. Ему всегда хотелось «войти» в дома Блока, в квартиру Есенина, где сохранилась, он знал, даже печка, в которой поэт сжег свою первую пьесу. Но как войдешь: живут чужие люди, неловко беспокоить. А телевизионщики - народ без комплексов: нахраписто звонят, сразу бегут искать розетки для софитов, двигают по своему усмотрению мебель и даже требуют от жильцов «не мешать им работать». Теперь и Вячеслав проникал ними в заветные места. Именно так, в квартире Мандельштама на Васильевском, где тот написал про «цепочки дверные» на черной лестнице, он увидел, потрогал их: «И всю ночь до утра жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных...» Стихи жили и через 60 лет после смерти поэта…



Три основные изданные книги Вячеслава Недошивина - «Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург» (второе издание); «Адреса любви. Москва. Петербург. Париж» и «Джордж Оруэлл. Неприступная душа».
Надо ли говорить, что банальное человеческое любопытство и небанальное желание всё пережить, показать, объяснить, обо всем рассказать, помноженное на упорство и тихий труд насытило особостью ту самую «пятую жизнь» Вячеслава Недошивина, которая стала ему интересней всех. Сегодня у него 100 фильмов о Серебряном веке, к питерским прибавилось 40 московских серий о поэтах и домах, где они обитали. Это фильмы о Цветаевой, Брюсове, Бальмонте, Белом и Пастернаке, Ходасевиче и Есенине. Изданы и переизданы уже четырежды две книги - «Прогулки по Серебряному веку. Очень личные истории из жизни петербургских зданий» (2009) и «Адреса любви. Дома и домочадцы русской литературы. Москва, Петербург, Париж» (2013). Книги эти зачитывают в библиотеках (он сам видел их в библиотеке Ахматовой подремонтированными изолентой из-за зачитанности), люди дарят их друг другу (один профессор-металлург недавно признался ему, что раздарил 25 экземпляров его «Адресов»). На клубных Книжных салонах на ММКВЯ именно книги Недошивина уходили со стенда пачками: оптовики из регионов охотились за ними.


2009 год. Презентация нового издания книги Вячеслава Недошивина «Прогулки по Серебряному веку» прошли в Центральном доме литераторов и в «Российской газете». На фото в ЦДЛ автор с коллегами по «Комсомольской правде», членами Клуба журналистов КП (слева направо) Зоей Крыловой, Лидией Графовой, Людмилой Семиной.
Сам Вячеслав давно уже привык к писательской просветительской миссии: ныне его зовут выступать в Таллин и Вильнюс, в Симферополь и Кишинев, в Ригу и Минск, с ним делают беседы в газетах, он частый гость на «Радио России», на «Эхе Москвы» и даже в передачах о культуре у Ивана Толстого на радио «Свобода». Про родную «Комсомолку» и говорить не приходится.
Да, «первая жизнь», газетная, оказалась накрепко связанной с «пятой», просветительской. Впрочем, и все остальные перевязаны между собой. Та же научная «вторая жизнь» его вдруг аукнулась несколько лет назад звонком из «Молодой гвардии» с предложением написать книгу об Оруэлле. «Вы же переводили его, пишете о нем в газетах, отмечаете его юбилеи, кому, как не вам?..» Не сразу, но согласился, и, потратив пять лет, в 2019 году выпустил том (и тоже под 800 страниц!) о своем кумире: «Джордж Оруэлл. Неприступная душа». А уже в начале 2020 года в ЦДЛ ему вручали ежегодную премию Союза писателей Москвы «Венец».Ничто не проходит даром в этой жизни, даже если она сплетена из пяти...
Да, «первая жизнь», газетная, оказалась накрепко связанной с «пятой», просветительской. Впрочем, и все остальные перевязаны между собой. Та же научная «вторая жизнь» его вдруг аукнулась несколько лет назад звонком из «Молодой гвардии» с предложением написать книгу об Оруэлле. «Вы же переводили его, пишете о нем в газетах, отмечаете его юбилеи, кому, как не вам?..» Не сразу, но согласился, и, потратив пять лет, в 2019 году выпустил том (и тоже под 800 страниц!) о своем кумире: «Джордж Оруэлл. Неприступная душа». А уже в начале 2020 года в ЦДЛ ему вручали ежегодную премию Союза писателей Москвы «Венец».Ничто не проходит даром в этой жизни, даже если она сплетена из пяти...

2019 год. Презентацию книги Вячеслава Недошивина «Джордж Оруэлл. Неприступная душа» ведет его коллега по «Комсомольской правде» 70-80-х годов Юрий Рост.
Фото Людмилы Семиной.
Фото Людмилы Семиной.
- Знаешь, - сказал он в завершение, - стимул - это все-таки кажущаяся неисполнимость большой цели. Известно высказывание Бродского Ахматовой: «Главное — величие замысла...» Ей это очень понравилось. Пусть ты и не достигнешь большой цели, но - сделаешь максимум из возможного.
В случае с Недошивиным трудно говорить о недостижимости чего- либо вообще. В издательство сдан огромный том «Литературная Москва: вдоль и поперек» - фактически энциклопедия адресов поэтов и писателей за четыре последних века. От Кантемира и Фонвизина, Державина и Тредиаковского — до Евтушенко и Высоцкого, Битова и Бродского. Восемь с половиной тысяч адресов! Еще два таких же тома, но уже о Петербурге и Париже в работе. Вообще-то такие труды по плечу коллективам ученых. А тут — один. Но, может, это и есть «величие замысла»? И та «музыка над нами», которая влечет через все пять жизней, отпущенных человеку? Даже если он замысливает не совсем то, сбывается-то всегда то...
В случае с Недошивиным трудно говорить о недостижимости чего- либо вообще. В издательство сдан огромный том «Литературная Москва: вдоль и поперек» - фактически энциклопедия адресов поэтов и писателей за четыре последних века. От Кантемира и Фонвизина, Державина и Тредиаковского — до Евтушенко и Высоцкого, Битова и Бродского. Восемь с половиной тысяч адресов! Еще два таких же тома, но уже о Петербурге и Париже в работе. Вообще-то такие труды по плечу коллективам ученых. А тут — один. Но, может, это и есть «величие замысла»? И та «музыка над нами», которая влечет через все пять жизней, отпущенных человеку? Даже если он замысливает не совсем то, сбывается-то всегда то...
Людмила Семина
Часовой детства, или три звездных жизни

Альберт Анатольевич Лиханов, ветеран «Комсомольской правды», известный писатель, председатель Российского детского фонда.
Из личного архива Альберта Лиханова
Из личного архива Альберта Лиханова
13 сентября 2020 года исполняется 85 лет Альберту Лиханову, ветерану «Комсомольской правды», известному писателю, председателю Российского детского фонда
Первый звездный час у 26-летнего тогда Алика Лиханова случился в 1962 году. В журнале «Юность» был опубликован его рассказ «Шагреневая кожа», а на Всесоюзном совещании молодых писателей его благословил на дальнейшие литературные подвиги классик детской прозы Лев Кассиль. Лиханов был в это время уже главредом кировской «молодежки», прошел до того после окончания Уральского университета школу практической журналистики в областной «Кировской правде», плотно вошел в вятские творческие круги, издал первую свою повесть «Благие намерения».
Это был хороший старт. И хороший заход на новый жизненный виток.
С 1964 по 1966 год Альберт Лиханов работал собкором «Комсомольской правды» по Западной Сибири. В это время там гремел новосибирский Академгородок, самый интеллектуальный проект оттепели, воплотивший мечты и надежды модных тогда «физиков и лириков». И, конечно, «Комсомолка» была на тамошней передовой борьбы за научный прогресс. Лиханов оказался очень кстати. Наш главный редактор тех лет Борис Панкин прислал свой мини-мемуар к юбилею Альберта Анатольевича. Цитирую:
Первый звездный час у 26-летнего тогда Алика Лиханова случился в 1962 году. В журнале «Юность» был опубликован его рассказ «Шагреневая кожа», а на Всесоюзном совещании молодых писателей его благословил на дальнейшие литературные подвиги классик детской прозы Лев Кассиль. Лиханов был в это время уже главредом кировской «молодежки», прошел до того после окончания Уральского университета школу практической журналистики в областной «Кировской правде», плотно вошел в вятские творческие круги, издал первую свою повесть «Благие намерения».
Это был хороший старт. И хороший заход на новый жизненный виток.
С 1964 по 1966 год Альберт Лиханов работал собкором «Комсомольской правды» по Западной Сибири. В это время там гремел новосибирский Академгородок, самый интеллектуальный проект оттепели, воплотивший мечты и надежды модных тогда «физиков и лириков». И, конечно, «Комсомолка» была на тамошней передовой борьбы за научный прогресс. Лиханов оказался очень кстати. Наш главный редактор тех лет Борис Панкин прислал свой мини-мемуар к юбилею Альберта Анатольевича. Цитирую:
«Да, Лиханов в «Комсомольской правде» произрастал при мне. Я уже был главредом. Альберт отличался большой задиристостью. Приходилось и защищать, когда на него нападала партийная власть (Лигачев - за поддержку газетой ученых из Сибирского академгородка). Лигачев припоминал мне эту полемику нашу с ним, когда стал вторым человеком при Горбачеве.
Передайте Лиханову мои поздравления с юбилеем. БД».
Передайте Лиханову мои поздравления с юбилеем. БД».
Передаем!
Лиханов привез из той своей творческой командировки повесть «Паводок». Я перечитала ее сегодня. Крепкая, взрослая, детективная, упругая проза - без единого лишнего слова, без лишних же эмоций и разборок, хотя повесть психологическая, с четкими характерами и непростыми взаимоотношениями. Очень, кстати, соответствующая по стилистике другим культовым произведениям своего времени: картине Павла Никонова «Геологи», фильму Киры Муратовой «Короткие встречи», скульптуре «Прометей» в Артеке Эрнста Неизвестного. Повесть «Паводок» из той же серии - про геодезическую экспедицию в тайге, про брутальных простых мужчин и их благородные представления о жизни.
Правда, это не связано напрямую с Академгородком, как я ожидала. Но и Западная Сибирь - не только ученые-физики; она еще и нефть, и газ, которые тогда только нащупывались геологами и геодезистами.
Лиханов привез из той своей творческой командировки повесть «Паводок». Я перечитала ее сегодня. Крепкая, взрослая, детективная, упругая проза - без единого лишнего слова, без лишних же эмоций и разборок, хотя повесть психологическая, с четкими характерами и непростыми взаимоотношениями. Очень, кстати, соответствующая по стилистике другим культовым произведениям своего времени: картине Павла Никонова «Геологи», фильму Киры Муратовой «Короткие встречи», скульптуре «Прометей» в Артеке Эрнста Неизвестного. Повесть «Паводок» из той же серии - про геодезическую экспедицию в тайге, про брутальных простых мужчин и их благородные представления о жизни.
Правда, это не связано напрямую с Академгородком, как я ожидала. Но и Западная Сибирь - не только ученые-физики; она еще и нефть, и газ, которые тогда только нащупывались геологами и геодезистами.

1960-й год. Строительство Новосибирского Академгородка.
Лиханов вернулся в столицу к своим тридцати уже состоявшимся писателем. Два десятилетия выпускал как ответсек, а с 1980 года и главредом самый многотиражный литературно-публицистический журнал «Смена», тоже крепкий, качественный, с хорошей репутацией и хорошим вкусом. Поколения советской молодежи формировали свою шкалу культурных ценностей по лекалам «Смены». У меня на стене у компьютера до сих пор висит в рамке вырезанная из лихановского журнала репродукция пушкинского портрета работы Виктора Пивоварова ; и лучшего Пушкина я не видала...
Эти двадцать лет - пик литературного творчества и самого Лиханова: он завершил этот период вышедшим в «Молодой гвардии» четырехтомником своей прозы. Его уже официально называют классиком литературы для юношества. Он входит в руководство Союза писателей СССР, становится академиком двух Академий и почетным членом нескольких университетов. Повести и романы широко расходятся по школьным и прочим, в том числе - личным, а также и зарубежным в переводе на 37 языков, - библиотекам. Совокупный тираж его книг - 30 миллионов экземпляров. Пожалуй, нет подростка в те годы в стране, который не читал бы Лиханова. Можно сказать, что 70-80 годы - это безостановочный звездный период его жизни.
Так он встретил свое пятидесятилетие. И вот очередной виток и очередной звездный час.
Эти двадцать лет - пик литературного творчества и самого Лиханова: он завершил этот период вышедшим в «Молодой гвардии» четырехтомником своей прозы. Его уже официально называют классиком литературы для юношества. Он входит в руководство Союза писателей СССР, становится академиком двух Академий и почетным членом нескольких университетов. Повести и романы широко расходятся по школьным и прочим, в том числе - личным, а также и зарубежным в переводе на 37 языков, - библиотекам. Совокупный тираж его книг - 30 миллионов экземпляров. Пожалуй, нет подростка в те годы в стране, который не читал бы Лиханова. Можно сказать, что 70-80 годы - это безостановочный звездный период его жизни.
Так он встретил свое пятидесятилетие. И вот очередной виток и очередной звездный час.

Логотип РДФ
Кто помнит перестройку, помнит и триумфальное появление в нашей социалистической державе первого БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО учреждения: Советского детского фонда имени В.И.Ленина. Тут всё было впервые и необычно: и фонд (что это такое?!), и благотворительный (а как это?!), и детский (почему?!)... Разве только имя Ленина не вызывало вопросов: разумеется, ведь мы с детского сада знали, что он - главный детолюб страны Советов. И только сейчас, спустя тридцать с лишним лет, становится понятна прозорливость Лиханова. Сначала он думал всего лишь о помощи детям-сиротам и сумел добиться принятия двух правительственных постановлений об этом, а в 1987 году стал председателем детского фонда. Тогда же он подготовил к подписанию Конвенцию о правах ребенка, вместе с министром иностранных дел Эдуардом Шеварнадзе подписал ее от имени Советского Союза на Генеральной Ассамблее ООН и добился как член Верховного Совета СССР в 1989 году ее ратификации. То, что делается теперь для наших детей, особенно, в вопросах медицинской поддержки и Благотворительной помощи, в преодолении сиротства и безнадзорности, идет от того акта подписания. Авторитет Лиханова как «часового детства» признан поэтому во всем мире даже, пожалуй, более, чем родном отечестве, в котором, как известно, своих пророков не бывает... Впрочем, наград у Альберта Анатольевича и государственных, и общественных, и литературных, и иностранных, и церковных (он крещен как Глеб) немало.

Ян Симоненко, 9 лет, читатель и автор рисунков по книгам Альберта Лиханова. Республика Адыгея, Кошехабльский район, школа № 8, наставник Вахрина Н. И.
Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», номинация «Дети Победы».
Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», номинация «Дети Победы».
И есть еще одна сторона его жизни, не такая громогласная, но, на мой взгляд, самая замечательная. Альберт Анатольевич Лиханов и его РДФ ведут большую и всевозможную работу с детьми-читателями. На фейсбуке есть блог «Читаем Альберта Лиханова», подписчиком которого я являюсь и который все время смотрю, потому что там публикуют свои сочинения и отзывы о прочитанном отроки. То есть дети самого святого возраста, когда в них начинает просыпаться духовность. Такие чистые слова, рисунки, такие чистые детские лица на видеозаписях из библиотек, где подростки читают книги Лиханова вслух...
Этот третий звездный период нашего коллеги длится уже 33 года. Дольше прежних. И необозримый в перспективе.
Мы поздравляем Альберта Анатольевича Лиханова с его 85-летием. Поздравляем и Российский детский фонд с юбилеем его основателя и бессменного руководителя. А российскую литературу с тем, что она вырастила уникального и плодовитого писателя, обогатившего ее на сто с лишним произведений для юношества.
Этот третий звездный период нашего коллеги длится уже 33 года. Дольше прежних. И необозримый в перспективе.
Мы поздравляем Альберта Анатольевича Лиханова с его 85-летием. Поздравляем и Российский детский фонд с юбилеем его основателя и бессменного руководителя. А российскую литературу с тем, что она вырастила уникального и плодовитого писателя, обогатившего ее на сто с лишним произведений для юношества.
Звёздная пара шестого этажа
26 июня 2024 года исполняется 90 лет Киму Николаевичу Смирнову - журналисту «Комсомольской правды» 60-70-х годов. Свой юбилей он встречает очередными публикациями и новыми записями в личном дневнике, который ведёт уже 80 лет.

1969 год. Заведующая отделом учащейся молодёжи Татьяны Сергеевна Яковлева и заведующий отделом студенческой молодёжи «Комсомольской правды» Ким Николаевич Смирнов.
Фотоколлаж: Ирина Борисенко.
Фотоколлаж: Ирина Борисенко.
Между романтикой и интеллектом
Отдел студенческой молодёжи «Комсомольской правды» всегда был носителем особого интеллектуализма в газете. Им руководили и люди особого склада: едкий пересмешник Виталий Ганюшкин, автор глубокомысленных притч Ерванд Григорянц, артистичный меломан и пластичный организатор Юрий Данилин. Но и среди этой когорты Ким Смирнов выделялся повышенным айкью. Завершая факультет журналистики МГУ, он одновременно учился на физфаке. Даже внешне он походил на учёного профессора. Особенно, когда начал носить усы. В его эпоху публикации студенческого отдела отличались философичностью и концептуальностью. Это он придумал новый учебный год открывать 1 сентября «Актовой лекцией» самых великих наших академиков, то есть придумал способ дать им живое и актуальное слово на газетной полосе. Кстати, рубрика прожила ещё многие годы после его ухода научным обозревателем газеты «Известия».
А чего стоили герои рубрики «Род студенческий» - ни одного ординарного! Однажды, беседуя с академиком математики Александровым, Ким увидел у него на столе макет пушки. И услышал историю невероятную: один из студентов академика придумал в начале войны способ пробивать из этой пушки броню немецких «тигров» и был награждён орденом Ленина. К окончанию вуза он стал уже лауреатом Сталинской премии. Ким разыскал, где этот студент, давно и сам ставший академиком, работает. Сумел отослать к нему стажера отдела Николая Боднарука. Очерк снял из номера цензор и был удивлён, как это журналисты сумели найти засекреченного академика. Ким до сих пор жалеет, что не сумел пробить публикацию о таком студенте.
В «Комсомолке» он проработал десять лет, с 1964 по 1974 год. Но появился там ещё в 1956-м, пришёл на практику в отдел литературы и культуры к Алексею Аджубею, тогда еще просто члену редколлегии. Понравился, был приглашён на преддипломную практику, получил предложение на необычный эксперимент в духе новаторских идей легендарного реформатора советской прессы: организовать и стать главным редактором студенческой газеты под эгидой «Комсомольской правды» (как сказали бы сегодня - спецпроект) для освещения первого Московского международного фестиваля молодёжи студентов. Ким с этим проектом справился, диплом защитил на «отлично». Но вместо Шестого этажа, где его ждали, выбрал при распределении Ульяновск.
Но всё почему? Да потому, что это был 1957 год, первый после ХХ съезда партии с критикой «культа личности Сталина», начало оттепели, волны гражданского пробуждения и романтических устремлений. Весь курс, получив дипломы журналистов, принял решение ехать на работу в районные газеты, поднимать новую журналистику снизу. Правда, документы Кима Смирнова умыкнул из управления печати обкома партии главред «Ульяновской правды», которому тоже не хватало новых кадров. Три года Ким был спецкором областной газеты. Вернулся в Москву по приглашению в аспирантуру журфака. За год написал диссертацию, вышел на защиту и… Ему позвонил из «Комсомолки» Григорянц и позвал в литсотрудники. Ким согласился в тот же миг. В университете был скандал, его едва не исключили из партии «за нарушение аспирантской этики». Но обошлось. Ким, ждавший второго шанса в «Комсомолке» долгих семь лет, ни разу не пожалел, что выбрал журналистику, а не науку. Просто стал заниматься наукой как журналистикой. Пишет о ней и её людях до сих пор. В его авторском активе, между прочим, 27 академиков, не считая сотен докторов и кандидатов наук.
На своём интернет-ресурсе он уже многие десятилетия ведёт рубрику «Из личного дневника». Дело в том, что Ким начал вести свой личный дневник с десяти лет, со дня гибели на фронте своего отца-военного, и ведет его без перерыва 80 лет. Не далее как неделю назад он напечатал огромный и блестящий материал о Пушкине, который тоже вошел в его личный дневник, но который также свидетельствует о плодовитости, плодотворности и неугасаемых способностях Кима Николаевича. Пушкин имеет самое непосредственное отношение к автору дневника: он тоже поэт, настоящий и интересный, глубокий и непосредственный, литературный и зеркалящий жизнь. Дневник наполнен его трепетной поэзией, показывая человека нежного и, несмотря на повышенный айкью, бесконечно романтичного.
Отдел студенческой молодёжи «Комсомольской правды» всегда был носителем особого интеллектуализма в газете. Им руководили и люди особого склада: едкий пересмешник Виталий Ганюшкин, автор глубокомысленных притч Ерванд Григорянц, артистичный меломан и пластичный организатор Юрий Данилин. Но и среди этой когорты Ким Смирнов выделялся повышенным айкью. Завершая факультет журналистики МГУ, он одновременно учился на физфаке. Даже внешне он походил на учёного профессора. Особенно, когда начал носить усы. В его эпоху публикации студенческого отдела отличались философичностью и концептуальностью. Это он придумал новый учебный год открывать 1 сентября «Актовой лекцией» самых великих наших академиков, то есть придумал способ дать им живое и актуальное слово на газетной полосе. Кстати, рубрика прожила ещё многие годы после его ухода научным обозревателем газеты «Известия».
А чего стоили герои рубрики «Род студенческий» - ни одного ординарного! Однажды, беседуя с академиком математики Александровым, Ким увидел у него на столе макет пушки. И услышал историю невероятную: один из студентов академика придумал в начале войны способ пробивать из этой пушки броню немецких «тигров» и был награждён орденом Ленина. К окончанию вуза он стал уже лауреатом Сталинской премии. Ким разыскал, где этот студент, давно и сам ставший академиком, работает. Сумел отослать к нему стажера отдела Николая Боднарука. Очерк снял из номера цензор и был удивлён, как это журналисты сумели найти засекреченного академика. Ким до сих пор жалеет, что не сумел пробить публикацию о таком студенте.
В «Комсомолке» он проработал десять лет, с 1964 по 1974 год. Но появился там ещё в 1956-м, пришёл на практику в отдел литературы и культуры к Алексею Аджубею, тогда еще просто члену редколлегии. Понравился, был приглашён на преддипломную практику, получил предложение на необычный эксперимент в духе новаторских идей легендарного реформатора советской прессы: организовать и стать главным редактором студенческой газеты под эгидой «Комсомольской правды» (как сказали бы сегодня - спецпроект) для освещения первого Московского международного фестиваля молодёжи студентов. Ким с этим проектом справился, диплом защитил на «отлично». Но вместо Шестого этажа, где его ждали, выбрал при распределении Ульяновск.
Но всё почему? Да потому, что это был 1957 год, первый после ХХ съезда партии с критикой «культа личности Сталина», начало оттепели, волны гражданского пробуждения и романтических устремлений. Весь курс, получив дипломы журналистов, принял решение ехать на работу в районные газеты, поднимать новую журналистику снизу. Правда, документы Кима Смирнова умыкнул из управления печати обкома партии главред «Ульяновской правды», которому тоже не хватало новых кадров. Три года Ким был спецкором областной газеты. Вернулся в Москву по приглашению в аспирантуру журфака. За год написал диссертацию, вышел на защиту и… Ему позвонил из «Комсомолки» Григорянц и позвал в литсотрудники. Ким согласился в тот же миг. В университете был скандал, его едва не исключили из партии «за нарушение аспирантской этики». Но обошлось. Ким, ждавший второго шанса в «Комсомолке» долгих семь лет, ни разу не пожалел, что выбрал журналистику, а не науку. Просто стал заниматься наукой как журналистикой. Пишет о ней и её людях до сих пор. В его авторском активе, между прочим, 27 академиков, не считая сотен докторов и кандидатов наук.
На своём интернет-ресурсе он уже многие десятилетия ведёт рубрику «Из личного дневника». Дело в том, что Ким начал вести свой личный дневник с десяти лет, со дня гибели на фронте своего отца-военного, и ведет его без перерыва 80 лет. Не далее как неделю назад он напечатал огромный и блестящий материал о Пушкине, который тоже вошел в его личный дневник, но который также свидетельствует о плодовитости, плодотворности и неугасаемых способностях Кима Николаевича. Пушкин имеет самое непосредственное отношение к автору дневника: он тоже поэт, настоящий и интересный, глубокий и непосредственный, литературный и зеркалящий жизнь. Дневник наполнен его трепетной поэзией, показывая человека нежного и, несмотря на повышенный айкью, бесконечно романтичного.
Между педагогикой и поиском
Сегодня, в день его рождения, очень удобный повод вспомнить не только о нём, но и о его жене - Татьяне Яковлевой, которая тоже стала не менее легендарной персоной среди журналистов прежней «Комсомолки». Она, кстати, единственная из заведующих отделами (а она заведовала школьным отделом, или, по-другому, учащейся молодёжи), которая пробыла в этой должности более 20 лет. Такого подвига даже «Комсомолка» больше не рождала. Уникум. Общий стаж её работы в газете составлял 33 года, с 1960-го по 1993-й.
Таня была удивительным, тонким, возвышенным, духовным человеком. Такой рафинированной интеллигентности четвёртого учительского поколения советской формации. Такая девушка 50-х, внешне она так и осталась ею до конца жизни. Ясные, светлые, добрые, чистосердечные глаза сразу брали в плен дружелюбия. Но, конечно, мы её любим и помним не за внешний вид, хотя она была миловидна и стройна, как, впрочем, многие девушки и женщины на Шестом этаже. В ней был притягательный шарм тихого омута. То есть чувствовался сильный характер и скрытая глубина.
Она была необыкновенно трудолюбива. Она была кропотлива и в работе, и в управлении своим хозяйством. Некоторые «творческие натуры» даже на неё обижались за педантизм, приверженность субординации и нормам трудовой и производственной дисциплины. Но, с другой стороны, это ведь при ней, все эти десятилетия, выходил безбрежно вольнолюбивый «Алый парус». Он всегда был необыкновенным. Да, им управляли лихие капитаны. Но вряд ли, если бы не четкие допуски и «красные линии» школьного отдела, эти шумливые люди справились бы с выходом своей полосы вовремя и в необходимых границах проходимости.
Как-то незаметно, но результативно Таня всё успевала, расставляла всех по местам, соблюдала баланс, планировала и контролировала. Сама писала заметные злободневные статьи, типа использования детского труда на хлопковых полях Средней Азии. Отражала «наезды» начальства на отдел. И горела школьной темой.
Хорошо передал атмосферу отдела в своём предисловии к недавно изданной книге Яковлевой «Возвращение Викниксора» Ким Николаевич. «Года её работы в «Комсомольской правде» связаны со школьным отделом в, может быть, самые яркие его годы. Нина Аллахвердова, Софья Большакова, Елена Брускова, Иван Зюзюкин, Ольга Мариничева, Нина Пижурина, Инна Руденко, Симон Соловейчик, Валерий Хилтунен… Одно перечисление имён (перечисляю в алфавитном порядке – чтобы без обид) чего стоит! Что ни человек – «золотое перо» нашей педагогической публицистики. А ещё созвездие капитанов выходившего при отделе «Алого паруса». Этот человеческий дружеский круг был ей дорог до последнего дыхания».
Таня и сама была известным публицистом: удостоена высших журналистских наград и в советские, и в постперестроечные годы («Золотое перо» Союза журналистов СССР и Почетный знак Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм»). Как журналиста её интересовала, прежде всего, фигура учителя. Книга, о которой речь, была первой в задуманной ею серии «Жизнь замечательных учителей». Издательство «Просвещение» заключило с ней соответствующий договор и даже сверстало книгу о Викторе Николаевиче Сороке-Росинском, основавшем в двадцатые годы в Ленинграде знаменитую школу имени Достоевского (т.н. «республику ШКИД»). Книга должна была выйти в 1993 году, но издательство обанкротилось, вёрстку рассыпали, и только в 2021 году она была издана Кимом Смирновым с помощью Татьяны Корсаковой, его ученицы и сменщицы в 80-е на посту заведующего студенческим отделом. Главная ценность этой книги в том, что автор не только научно восстанавливает подлинную биографию выдающегося педагога-новатора, но и защищает в ней его педагогическую концепцию. Таня вступает в спор с рецензиями Крупской «Воскресшая бурса» и Макаренко «Детство и литература», где опыт ШКИД был назван «педагогической неудачей». Она доказывает, что реальный прототип главного персонажа книги «Республика ШКИД» – герой всё-таки вымышленный, в чем-то окарикатуренный авторами-школярами, что судить о педагогическом вкладе Викниксора следует по его работам. Яковлева собрала большой архивный материал, отыскала забытые статьи Виктора Николаевича в дореволюционных педагогических журналах, получила от его сына неизвестную до того статью отца о своей школе и, опубликовав её в «Комсомольской правде», ввела эту статью в научный оборот. Теперь и эта статья нашла своё место в собрании педагогических и психологических трудов Сороки-Росинского, уже как заново открытого классика отечественной педагогики. Понятно, почему свою книгу Татьяна Сергеевна назвала «Возвращение Викниксора».
Однако наша газета обязана Яковлевой, пожалуй, ещё больше, чем педагогика. Именно благодаря её изысканиям стало известно имя Александра Слепкова, первого главреда «Комсомолки». Он стал жертвой репрессий в 1937 году и вымаран из истории буквальным образом. Тане удалось найти его изображение случайно, на чудом сохранившемся фотоснимке бухаринского кружка в чьём-то личном архиве. Её биографический очерк о первом редакторе «Комсомольской правды» вошёл теперь в историографию отечественный журналистики. Так же, как и очерки о нашем втором главреде Тарасе Кострове и первом ответсеке Тее Левиной.
Ким Смирнов назвал эту её поисковую страсть «геном первооткрывательства». Не исключено, что он сам когда-то и обнаружил его в Тане, разбудил и взрастил азарт профессионального исследователя. Это вполне в его духе. Тем более, что он любил Таню и называл её своей «женой с неба».
Сегодня, в день его рождения, очень удобный повод вспомнить не только о нём, но и о его жене - Татьяне Яковлевой, которая тоже стала не менее легендарной персоной среди журналистов прежней «Комсомолки». Она, кстати, единственная из заведующих отделами (а она заведовала школьным отделом, или, по-другому, учащейся молодёжи), которая пробыла в этой должности более 20 лет. Такого подвига даже «Комсомолка» больше не рождала. Уникум. Общий стаж её работы в газете составлял 33 года, с 1960-го по 1993-й.
Таня была удивительным, тонким, возвышенным, духовным человеком. Такой рафинированной интеллигентности четвёртого учительского поколения советской формации. Такая девушка 50-х, внешне она так и осталась ею до конца жизни. Ясные, светлые, добрые, чистосердечные глаза сразу брали в плен дружелюбия. Но, конечно, мы её любим и помним не за внешний вид, хотя она была миловидна и стройна, как, впрочем, многие девушки и женщины на Шестом этаже. В ней был притягательный шарм тихого омута. То есть чувствовался сильный характер и скрытая глубина.
Она была необыкновенно трудолюбива. Она была кропотлива и в работе, и в управлении своим хозяйством. Некоторые «творческие натуры» даже на неё обижались за педантизм, приверженность субординации и нормам трудовой и производственной дисциплины. Но, с другой стороны, это ведь при ней, все эти десятилетия, выходил безбрежно вольнолюбивый «Алый парус». Он всегда был необыкновенным. Да, им управляли лихие капитаны. Но вряд ли, если бы не четкие допуски и «красные линии» школьного отдела, эти шумливые люди справились бы с выходом своей полосы вовремя и в необходимых границах проходимости.
Как-то незаметно, но результативно Таня всё успевала, расставляла всех по местам, соблюдала баланс, планировала и контролировала. Сама писала заметные злободневные статьи, типа использования детского труда на хлопковых полях Средней Азии. Отражала «наезды» начальства на отдел. И горела школьной темой.
Хорошо передал атмосферу отдела в своём предисловии к недавно изданной книге Яковлевой «Возвращение Викниксора» Ким Николаевич. «Года её работы в «Комсомольской правде» связаны со школьным отделом в, может быть, самые яркие его годы. Нина Аллахвердова, Софья Большакова, Елена Брускова, Иван Зюзюкин, Ольга Мариничева, Нина Пижурина, Инна Руденко, Симон Соловейчик, Валерий Хилтунен… Одно перечисление имён (перечисляю в алфавитном порядке – чтобы без обид) чего стоит! Что ни человек – «золотое перо» нашей педагогической публицистики. А ещё созвездие капитанов выходившего при отделе «Алого паруса». Этот человеческий дружеский круг был ей дорог до последнего дыхания».
Таня и сама была известным публицистом: удостоена высших журналистских наград и в советские, и в постперестроечные годы («Золотое перо» Союза журналистов СССР и Почетный знак Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм»). Как журналиста её интересовала, прежде всего, фигура учителя. Книга, о которой речь, была первой в задуманной ею серии «Жизнь замечательных учителей». Издательство «Просвещение» заключило с ней соответствующий договор и даже сверстало книгу о Викторе Николаевиче Сороке-Росинском, основавшем в двадцатые годы в Ленинграде знаменитую школу имени Достоевского (т.н. «республику ШКИД»). Книга должна была выйти в 1993 году, но издательство обанкротилось, вёрстку рассыпали, и только в 2021 году она была издана Кимом Смирновым с помощью Татьяны Корсаковой, его ученицы и сменщицы в 80-е на посту заведующего студенческим отделом. Главная ценность этой книги в том, что автор не только научно восстанавливает подлинную биографию выдающегося педагога-новатора, но и защищает в ней его педагогическую концепцию. Таня вступает в спор с рецензиями Крупской «Воскресшая бурса» и Макаренко «Детство и литература», где опыт ШКИД был назван «педагогической неудачей». Она доказывает, что реальный прототип главного персонажа книги «Республика ШКИД» – герой всё-таки вымышленный, в чем-то окарикатуренный авторами-школярами, что судить о педагогическом вкладе Викниксора следует по его работам. Яковлева собрала большой архивный материал, отыскала забытые статьи Виктора Николаевича в дореволюционных педагогических журналах, получила от его сына неизвестную до того статью отца о своей школе и, опубликовав её в «Комсомольской правде», ввела эту статью в научный оборот. Теперь и эта статья нашла своё место в собрании педагогических и психологических трудов Сороки-Росинского, уже как заново открытого классика отечественной педагогики. Понятно, почему свою книгу Татьяна Сергеевна назвала «Возвращение Викниксора».
Однако наша газета обязана Яковлевой, пожалуй, ещё больше, чем педагогика. Именно благодаря её изысканиям стало известно имя Александра Слепкова, первого главреда «Комсомолки». Он стал жертвой репрессий в 1937 году и вымаран из истории буквальным образом. Тане удалось найти его изображение случайно, на чудом сохранившемся фотоснимке бухаринского кружка в чьём-то личном архиве. Её биографический очерк о первом редакторе «Комсомольской правды» вошёл теперь в историографию отечественный журналистики. Так же, как и очерки о нашем втором главреде Тарасе Кострове и первом ответсеке Тее Левиной.
Ким Смирнов назвал эту её поисковую страсть «геном первооткрывательства». Не исключено, что он сам когда-то и обнаружил его в Тане, разбудил и взрастил азарт профессионального исследователя. Это вполне в его духе. Тем более, что он любил Таню и называл её своей «женой с неба».
Служебный роман под псевдонимами
Когда-то Ким Смирнов учился вместе с Таней в одной группе на журфаке, оба проходили практику в «Комсомолке». Дружили. Но не больше. Ким, выраставший в семье офицера в воинских частях, взрослевший без погибшего отца, приехавший в Москву скромным пареньком сразу после школы, почитал Таню «практически как святую», так он сказал сегодня. После окончания факультета разъехались: Таня в Ярославскую область, Ким в Ульяновскую.
Снова встретились они уже в «Комсомолке», куда Яковлеву пригласили на работу в 1960 году, и где она чувствовала себя уже уверенно, готовясь возглавить отдел. Ким был рад встрече и товарищеской поддержке однокашницы. Оба отдела - школьный и студенческий, где Ким довольно скоро тоже стал руководителем, всегда были близки, составляя единый блок проблем образования, который вела как член редколлегии, Инна Павловна Руденко. Общие планы, обсуждения, собрания, посиделки, походы, грибные вылазки… Часто для этого использовалась квартира Кима в Лобне.
В многочисленных компаниях Таня и Ким были всё-таки на особом счёту: их сближало и общее прошлое, прежние отношения, и общее настоящее, одни заботы, один масштаб работы во главе отделов. Им было о чем поговорить, над чем поразмышлять. Таня больше слушала, а Ким старался блеснуть и эрудицией. И никто на свете не знал, что он уже давно начал писать в личном дневнике стихи, посвященные Тане. Ведь многие годы она оставалась его недосягаемой мечтой. Первым было такое.
Когда-то Ким Смирнов учился вместе с Таней в одной группе на журфаке, оба проходили практику в «Комсомолке». Дружили. Но не больше. Ким, выраставший в семье офицера в воинских частях, взрослевший без погибшего отца, приехавший в Москву скромным пареньком сразу после школы, почитал Таню «практически как святую», так он сказал сегодня. После окончания факультета разъехались: Таня в Ярославскую область, Ким в Ульяновскую.
Снова встретились они уже в «Комсомолке», куда Яковлеву пригласили на работу в 1960 году, и где она чувствовала себя уже уверенно, готовясь возглавить отдел. Ким был рад встрече и товарищеской поддержке однокашницы. Оба отдела - школьный и студенческий, где Ким довольно скоро тоже стал руководителем, всегда были близки, составляя единый блок проблем образования, который вела как член редколлегии, Инна Павловна Руденко. Общие планы, обсуждения, собрания, посиделки, походы, грибные вылазки… Часто для этого использовалась квартира Кима в Лобне.
В многочисленных компаниях Таня и Ким были всё-таки на особом счёту: их сближало и общее прошлое, прежние отношения, и общее настоящее, одни заботы, один масштаб работы во главе отделов. Им было о чем поговорить, над чем поразмышлять. Таня больше слушала, а Ким старался блеснуть и эрудицией. И никто на свете не знал, что он уже давно начал писать в личном дневнике стихи, посвященные Тане. Ведь многие годы она оставалась его недосягаемой мечтой. Первым было такое.

8 марта 1962 года
РЕЧКА ТАНЯ
Есть у меня тайна:
Вот уже много лет
Тихая речка Таня
Где-то течёт по земле.
В жёлтом венке кувшинок
Такая она одна.
Полднем её глубины
Высветлены до дна.
Дремлют над нею вязы,
Что-то шепчут во сне.
Звери из дальних сказок
В полночь приходят к ней.
Вот уже много лет
Тихая речка Таня
Где-то течёт по земле.
В жёлтом венке кувшинок
Такая она одна.
Полднем её глубины
Высветлены до дна.
Дремлют над нею вязы,
Что-то шепчут во сне.
Звери из дальних сказок
В полночь приходят к ней.
Лунный вдыхая воздух,
Медведи над ней встают
И самые лучшие звёзды
Прямо из речки пьют.
А мне она только снится,
А мне вот всё недосуг
С туманами к ней спуститься
В сказочном том лесу,
Печали смыть и заботы
Живою её водой...
Рейсовые самолёты
Уходят в туман седой,
Медведи над ней встают
И самые лучшие звёзды
Прямо из речки пьют.
А мне она только снится,
А мне вот всё недосуг
С туманами к ней спуститься
В сказочном том лесу,
Печали смыть и заботы
Живою её водой...
Рейсовые самолёты
Уходят в туман седой,
Уносят меня всё дальше
От светлой её волны.
Всё снится. А встречи даже
На карте нам не даны.
Просто — не знают сами
Составители карт,
Как солнечными рукам
Её пеленает март.
Просто — для них ведь тайна,
Что вот уже много лет
Тихая речка Таня
Где-то есть на земле.
От светлой её волны.
Всё снится. А встречи даже
На карте нам не даны.
Просто — не знают сами
Составители карт,
Как солнечными рукам
Её пеленает март.
Просто — для них ведь тайна,
Что вот уже много лет
Тихая речка Таня
Где-то есть на земле.
И надо ли удивляться, что он заговорил-таки её? Ким всегда обладал прекрасным слогом. Он весьма начитан. Его язык – язык большой поэзии. Конечно, без всяких вульгаризмов, бульварщины, чертыханий и брани. Они в нём отсутствуют генетически. Крепкие выражения только в литературной форме.
Позволю себе небольшое лирико-историческое отступление. Шестой этаж знает немало таких историй образования, а, верней, эволюционного слияния звёздных пар на почве трудовых бдений. В том же школьном отделе отмечали свадьбу первого «Капитана «АП» Лёши Ивкина и репортёра отдела информации Тани Иларионовой. Ладно, тут дело молодое, первый брак, живут до сих пор. Но были и другие случаи.
Вот уже больше полувека вспоминают громкие истории шестидесятников: как великая Инна Руденко ушла к заместителю главреда, фронтовику и тоже блестящему журналисту Киму Костенко. Как великий социолог Борис Грушин, руководивший в «КП» Институтом общественного мнения, увёл, ухаживая несколько лет, из её первой семьи Наташу Карцеву. Тоже заговорил, выманил умницу своим недюжинным интеллектом. Редактор иностранного отдела Александр Кривопалов не один год дожидался объяснения с Валей Малашкиной, которое ей и позволило разорвать ненужный прежний брак. Саша убедил её в своей верности, оставаясь все годы ожидания одиноким. Красивым был роман Лены Оберемок и Виктора Липатова: каждое утро на её рабочем столе стояли свежие цветы. Наконец, оба решились уйти из семей ради нового союза. Он, как и все остальные, о которых рассказано, оказался счастливым.
Так что любовными историями Шестой этаж было не удивить. Но когда Ким и Таня решились обнародовать свой брак, это стало для всех большой неожиданностью. Во-первых, все уже как-то привыкли, что они – закоренелые трудоголики и холостяки. Во-вторых, оба были по натуре сосредоточенными интровертами, от чего казалось, что они не испытывают чувств и эмоций, ничем их не проймёшь в этом смысле. Наконец, сами Ким и Таня боялись обнаружить свои отношения. Известно встало много поздней, что, даже переговариваясь между отделами по телефону, они в целях конспирации называли друг друга Костей и Светой. К тому же шестидесятые были еще годами достаточно целомудренного поведения советских людей. Как известно, «в СССР не было секса». Поэтому интимные отношения были как бы за скобками публичности. Но когда Таня согласилась пойти с Кимом в загс, скрывать стало больше нечего. Позвали оба отдела в Лобню как бы «по грибы» - и открылись. Так справили свадьбу. А свадебным путешествием стала поездка в Боголюбово во Владимирской области, к храму Покрова на Нерли. В личном дневнике появилась новая запись – стихотворение, конечно, посвященное Тане.
Позволю себе небольшое лирико-историческое отступление. Шестой этаж знает немало таких историй образования, а, верней, эволюционного слияния звёздных пар на почве трудовых бдений. В том же школьном отделе отмечали свадьбу первого «Капитана «АП» Лёши Ивкина и репортёра отдела информации Тани Иларионовой. Ладно, тут дело молодое, первый брак, живут до сих пор. Но были и другие случаи.
Вот уже больше полувека вспоминают громкие истории шестидесятников: как великая Инна Руденко ушла к заместителю главреда, фронтовику и тоже блестящему журналисту Киму Костенко. Как великий социолог Борис Грушин, руководивший в «КП» Институтом общественного мнения, увёл, ухаживая несколько лет, из её первой семьи Наташу Карцеву. Тоже заговорил, выманил умницу своим недюжинным интеллектом. Редактор иностранного отдела Александр Кривопалов не один год дожидался объяснения с Валей Малашкиной, которое ей и позволило разорвать ненужный прежний брак. Саша убедил её в своей верности, оставаясь все годы ожидания одиноким. Красивым был роман Лены Оберемок и Виктора Липатова: каждое утро на её рабочем столе стояли свежие цветы. Наконец, оба решились уйти из семей ради нового союза. Он, как и все остальные, о которых рассказано, оказался счастливым.
Так что любовными историями Шестой этаж было не удивить. Но когда Ким и Таня решились обнародовать свой брак, это стало для всех большой неожиданностью. Во-первых, все уже как-то привыкли, что они – закоренелые трудоголики и холостяки. Во-вторых, оба были по натуре сосредоточенными интровертами, от чего казалось, что они не испытывают чувств и эмоций, ничем их не проймёшь в этом смысле. Наконец, сами Ким и Таня боялись обнаружить свои отношения. Известно встало много поздней, что, даже переговариваясь между отделами по телефону, они в целях конспирации называли друг друга Костей и Светой. К тому же шестидесятые были еще годами достаточно целомудренного поведения советских людей. Как известно, «в СССР не было секса». Поэтому интимные отношения были как бы за скобками публичности. Но когда Таня согласилась пойти с Кимом в загс, скрывать стало больше нечего. Позвали оба отдела в Лобню как бы «по грибы» - и открылись. Так справили свадьбу. А свадебным путешествием стала поездка в Боголюбово во Владимирской области, к храму Покрова на Нерли. В личном дневнике появилась новая запись – стихотворение, конечно, посвященное Тане.

4 августа 1970 года. Вторник. Тане в день рождения.
НЕРЛЬ
Сбежав от куполов и колоколен
И светом став, и светлым звуком став,
Таишься за туманами, доколе
Роса не упадёт с запястий трав.
И вдруг потом откроешься, такая,
Что мне теперь навек предрешено,
По свету заколдованно плутая,
К тебе одной вернуться всё равно.
И сквозь туман, что над рекою вырос,
Смотреть, как ты светаешь впереди.
О, Нерль моя, укрой меня от мира
И вновь открой, и к людям приведи.
И светом став, и светлым звуком став,
Таишься за туманами, доколе
Роса не упадёт с запястий трав.
И вдруг потом откроешься, такая,
Что мне теперь навек предрешено,
По свету заколдованно плутая,
К тебе одной вернуться всё равно.
И сквозь туман, что над рекою вырос,
Смотреть, как ты светаешь впереди.
О, Нерль моя, укрой меня от мира
И вновь открой, и к людям приведи.
От городов, отравленных бензином,
Где травам больно сквозь асфальт расти,
Дай прикоснуться к родникам глубинным,
Глубинное дыханье обрести.
Листву, отяжелевшую от зноя,
И душный мир в предчувствии грозы,
И небо, воспалённо голубое,
На застеклённых крыльях стрекозы
Перечеркни. И пусть забудусь я
В прохладном зацветающем ополье,
Где сказка начинается твоя
За деревянной присказкой околиц.
Где травам больно сквозь асфальт расти,
Дай прикоснуться к родникам глубинным,
Глубинное дыханье обрести.
Листву, отяжелевшую от зноя,
И душный мир в предчувствии грозы,
И небо, воспалённо голубое,
На застеклённых крыльях стрекозы
Перечеркни. И пусть забудусь я
В прохладном зацветающем ополье,
Где сказка начинается твоя
За деревянной присказкой околиц.
Ты помолчи над спящим надо мной
Берёзкою, отбившейся от рощи.
Пусть воды отражение полощут,
Как белый плат, как полог неземной.
И разбуди. Стряхнув немые сны
И бурю выбирая в побратимы,
Мне не забыть: она необратима,
Неотвратима, память тишины.
О, Нерль моя! Сквозь реактивный гром
Всё мнится мне на аэровокзалах,
Как ты в цветах на цыпочки привстала
В безмолвном просветлении своём.
Мне не забыть: в твоей рассветной мгле
Медовый ветер лепестки листает,
И жаворонка песня зависает
Над путником, идущим по земле.
Берёзкою, отбившейся от рощи.
Пусть воды отражение полощут,
Как белый плат, как полог неземной.
И разбуди. Стряхнув немые сны
И бурю выбирая в побратимы,
Мне не забыть: она необратима,
Неотвратима, память тишины.
О, Нерль моя! Сквозь реактивный гром
Всё мнится мне на аэровокзалах,
Как ты в цветах на цыпочки привстала
В безмолвном просветлении своём.
Мне не забыть: в твоей рассветной мгле
Медовый ветер лепестки листает,
И жаворонка песня зависает
Над путником, идущим по земле.
Таня не дожила до их золотой свадьбы всего двух месяцев.
Прожив вместе полвека, они стали настолько неразрывной парой, что один от другого уже были неотличимы. Ким при этом до конца жизни Тани и до сегодняшнего дня, до своих 90 лет, хранит необыкновенно нежное, трепетное любовное чувство к ней. И это все время прорывается в тех стихах, которые он ей пишет. После того, как они поженились и он открыл ей свою поэтическую сокровищницу, Ким дарил Тане стихотворение на каждый её день рождения и на каждый Татьянин день. Поэтому стихотворный цикл, посвящённый Татьяне, чрезвычайно велик. Часть этого цикла мы напечатали в клубной поэтической антологии «Стихи Шестого этажа».
Если когда-нибудь будет опубликован его личный дневник в 4 000 страниц, там будет весь цикл целиком.
Ну всё же сюда, в конец рассказа об этом удивительном союзе двух замечательных журналистов «Комсомольской правды» хочется поставить ещё одно маленькое стихотворение Кима, написанное и посвящённое Тане уже после её ухода.
Прожив вместе полвека, они стали настолько неразрывной парой, что один от другого уже были неотличимы. Ким при этом до конца жизни Тани и до сегодняшнего дня, до своих 90 лет, хранит необыкновенно нежное, трепетное любовное чувство к ней. И это все время прорывается в тех стихах, которые он ей пишет. После того, как они поженились и он открыл ей свою поэтическую сокровищницу, Ким дарил Тане стихотворение на каждый её день рождения и на каждый Татьянин день. Поэтому стихотворный цикл, посвящённый Татьяне, чрезвычайно велик. Часть этого цикла мы напечатали в клубной поэтической антологии «Стихи Шестого этажа».
Если когда-нибудь будет опубликован его личный дневник в 4 000 страниц, там будет весь цикл целиком.
Ну всё же сюда, в конец рассказа об этом удивительном союзе двух замечательных журналистов «Комсомольской правды» хочется поставить ещё одно маленькое стихотворение Кима, написанное и посвящённое Тане уже после её ухода.

7 января 2020 г. Среда. Рождество.
Тане.
ОКАМЕНЕВШАЯ ЗВЕЗДА
Сегодня, в хмурый рождественский день, храм Покрова на Нерли, который мы с Таней чтили как место нашей помолвки, теперь, когда её нет, чудится мне опустившейся на Землю и окаменевшей Вифлеемскою звездой.
Вот и время подвести итоги,
Под чертой поставить: «Итого»,
По мощённой вечностью дороге
Не дойдя до храма своего,
Что встаёт за поймой, за стогами,
Как окаменевшая звезда,
Прошептав предсмертными губами:
«Я с тобой, родная, навсегда…».
О легендах «Комсомольской правды»
НАШИ ГЛАВРЕДЫ
Главные редакторы «Комсомольской правды»: биографии
АЛЕКСАНДР СЛЕПКОВ
Родился в 1899 году, окончил гимназию в Рязани, преподавал русский язык и историю в начальных училищах. После революции вступил в РКП (б), воевал, участвовал в подавлении Кронштадского мятежа. Окончил Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова. Один из наиболее ярких представителей т. н. «школы Бухарина», активный участник внутрипартийных дискуссий. Преподаватель Института красной профессуры, член редколлегии газеты «Правда», член бюро ЦК ВЛКСМ. Апрель-сентябрь1925 года – создатель и ответственный редактор «Комсомольской правды». Освобожден сталинской группировкой за публикацию пробухаринских статей о НЭПе.Впоследствии – заведующий отделом пропаганды исполкома Коминтерна, член редколлегии журнала «Большевик», член МК ВКП (б). Репрессирован, расстрелян в 1937 году.
ТАРАС КОСТРОВ (Александр Мартыновский)
Родился в 1901 году в Чите, в семье ссыльных «народовольцев». Был агентом большевистской «Искры», секретарем Луганского уездного комитета партии, редактором губернской газеты «Одесский коммунист», киевской газеты «Пролетарская правда». Сентябрь 1925 – ноябрь 1928 г.г. – ответственный редактор «Комсомольской правды». Поводом для снятия послужили «ошибки» при освещении правого и левого уклонов в партии, излишняя самостоятельность газеты, вышедшей, по мнению Политбюро ВКП (б), «несмотря на предупреждения» из-под партийного контроля. Впоследствии – ответственный редактор издательства «Молодая гвардия», заместитель главного редактора журнала «За рубежом». Будучи слабого здоровья, умер во время отдыха осенью 1930 года в г.Гагры (Абхазия), где и похоронен.
ИВАН БОБРЫШЕВ
Родился в 1903 году в Смоленске, один из организаторов областной молодежной газеты «Юный товарищ». Заместитель главного редактора смоленской областной партийной газеты «Рабочий путь», заведующий отделом печати Ленинградского губкома ВЛКСМ, заместитель ответственного редактора «Комсомольской правды». Ноябрь 1928 – август 1929 г.г. – ответственный редактор «Комсомольской правды. Продолжал борьбу за право газеты на собственное мнение в текущей внутрипартийной борьбе, опубликовал цикл «левоуклонистских» статей, что послужило поводом для его освобождения и окончательного - при участии от ВКП (б) Л.Кагановича - разгрома редакции в августе 1929 года. Впоследствии – слушатель Института красной профессуры, начальник политотдела Тбилисского и Бакинского отделений железной дороги. Репрессирован, расстрелян в 1937 году.
АНДРЕЙ ТРОИЦКИЙ
Родился в 1902 году в Тверской области. Cекретарь Тверского губкома комсомола, заместитель заведующего орготделом ЦК ВЛКСМ, заведующий отделом пропаганды и агитации Краснопресненского РК ВКП (б) г.Москвы. Направлен в КП во исполнение постановления ЦК ВКП (б) о партийном укреплении центральной молодежной газеты. Январь 1929 – июль 1932 г.г. – ответственный редактор «Комсомольской правды». Проводил политику активного участия газеты в общественных преобразованиях, в организации молодежных акций и движений. При нем родились выездные редакции КП, марш ударных бригад, переросший в идею социалистического соревнования, за что газета получила в 1930 году орден Ленина № 1. Впоследствии - директор издательства «Молодая гвардия», главный редактор газеты «Ленинградская правда». Репрессирован, расстрелян в 1937 году.
ВЛАДИМИР БУБЕКИН
Родился в 1904 году во Владимире, окончил четыре класса гимназии. Организатор и член редколлегии пензенской молодежной газеты «Знамя ленинца», ответственный редактор свердловской молодежной газеты «На смену». По личной рекомендации вожака комсомола Александра Косарева, близким другом которого являлся, переведен заместителем ответственного редактора «Комсомольской правды». Июль 1932 – июль 1937 г.г. – ответственный редактор «Комсомольской правды». Поощрял и инициировал злободневные общественные акции молодежи. Награжден орденом Красной Звезды, избран делегатом 17-го съезда ВКП (б). С началом репрессий проводил четкую охранительную политику в отношении редакционного коллектива, публиковал статьи протестного характера. Арестован, расстрелян в 1937 году.
АЛЕКСАНДР НИКИТИН
Родился в 1901 году в Иваново-Вознесенской губернии. Окончил сельскую школу, батрачил, был подмастерьем в валяльной мастерской. Вступил в юношескую организацию "III Интернационал", с двадцати лет на комсомольской работе: отв.секретарь Владимирского губкома, затем Иваново-Вознесенского губкома РКСМ, секретарь Сибирского губкома ВЛКСМ, редактор московской молодежной газеты "Молодой ленинец". Избран членом бюро ЦК ВЛКСМ, направлен в КП заместить арестованного В.Бубекина. Август – ноябрь 1937 года – ответственный редактор "Комсомольской правды".Переведен в ЦК ВКП (б) – заведующим Отделом печати и издательств. С ноября 1938 года - главный редактор журнала "Огонек". Репрессирован, арестован в сентябре 1939 года, расстрелян в 1941 году.
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ
Родился в 1906 году в Москве. С 1922 года рабочий на заводе «Серп и молот», с 1932 года — выдвиженец-редактор заводской газеты "Мартеновка". С выходом первой книги "В боях за металл" (1930) стал участником т.н. призыва рабочих-ударников в литературу, внедрения в нее новых тем индустриализации. После прохождения службы в КА, назначен редактором многотиражки на заводе «Динамо». Выдвинут на партийную работу, зав.сектором печати Пролетарского РК ВКП (б) г.Москвы. Включен в группу контроля за принятием Конституции СССР на базе газеты «Правда». Декабрь 1937 – март 1939 г.г. – ответственный редактор «Комсомольской правды».Одновременно, cменив арестованного А. Косарева, с ноября 1938 года – первый секретарь ЦК ВЛКСМ, оставаясь им в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный перод. В 1952 году был выдвинут И.Сталиным членом Президиума, секретарем ЦК КПСС. Впоследствии – первый секретарь Московского обкома КПСС, министр культуры СССР, председатель Госкомпечати, Чрезвычайный и Полномочный посол в Индонезии и Польше. Скончался в 1982 году.
АРКАДИЙ ПОЛЕТАЕВ
Родился в 1907 году в Екатеринбурге. Окончил педагогический институт 2-го МГУ, преподаватель истории ВКП (б) Московской областной газетной школы, директор московского областного Дома партобразования, слушатель Высшей школы пропагандистов при ЦК ВКП(б), заместитель ответственного редактора «Комсомольской правды». Март 1939 – март 1940 г.г. временно исполняющий обязанности ответственного редактора «Комсомольской правды». В годы ВОВ политрук Северо-Западного и 3-его Прибалтийского фронтов. После ранения демобилизован в ранге майора запаса, работал в газетах Уральского и Московского военных округов. По окончании аспирантуры Института Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП (б) – кандидат исторических наук, преподаватель, научный сотрудник ИМЭЛ. Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны. Скончался в 1987 году.
НИКОЛАЙ ДАНИЛОВ
Родился в 1905 году в Санкт-Петербурге. В 20-х годах - один из первых пионервожатых в Петроградском районе Ленинграда. После окончания индустриального института ответственный редактор ленинградской пионерской газеты «Ленинские искры», всесоюзной «Пионерской правды».
Март 1940 – март 1942 г.г. – ответственный редактор «Комсомольской правды». С началом Великой Отечественной войны занят эвакуационными делами, перебазированием редакции в г. Куйбышев. Номера в этот период подписывал его московский заместитель Б.Бурков. По возвращении из эвакуации - ответработник ЦК ВКП (б), секретарь МГК ВКП (б) по пропаганде. Создатель и главный редактор газеты «Советская культура», заместитель министра культуры СССР по вопросам кинематографии. Награжден орденами Ленина, Красной звезды. Скончался в 1970 году.
Март 1940 – март 1942 г.г. – ответственный редактор «Комсомольской правды». С началом Великой Отечественной войны занят эвакуационными делами, перебазированием редакции в г. Куйбышев. Номера в этот период подписывал его московский заместитель Б.Бурков. По возвращении из эвакуации - ответработник ЦК ВКП (б), секретарь МГК ВКП (б) по пропаганде. Создатель и главный редактор газеты «Советская культура», заместитель министра культуры СССР по вопросам кинематографии. Награжден орденами Ленина, Красной звезды. Скончался в 1970 году.
БОРИС БУРКОВ
Родился в 1908 году в Тульской области. Работал агрономом в Киргизии, преподавал в Рязани. С 1938 года ответственный редактор рязанской молодежной газеты "Сталинец". В "Комсомольской правде" (1939 - 48) - заместитель ответственного редактора, ответственный секретарь. С началом Великой Отечественной войны руководитель московской редакционной группы, подписывал выходящие номера, неоднократно выезжал на фронты в качестве военного корреспондента. Март 1942 – январь 1948 г.г. – ответственный редактор «Комсомольской правды».При нем газета награждена орденом Отечественной войны 1-й степени. Впоследствии - член редколлегии журналов "Большевик", "Огонек", главный редактор газеты "Труд", заместитель главного редактора газеты "Правда". Основатель и председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН). Награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени. Скончался в 1997 году.
АНАТОЛИЙ БЛАТИН
Родился в 1910 году в Санкт-Петербурге. Секретарь Выборгского райкома комсомола, Ленинградского ГК ВЛКСМ по пропаганде. В 1939 году назначен главным редактором молодежной газеты «Смена», которой руководил и в период блокады Ленинграда. Осенью 1943 года переведен членом редколлегии «Комсомольской правды». Февраль 1948 – январь 1950 г.г. – ответственный редактор «Комсомольской правды». Основной упор газета делала на участии молодежи в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства. По его представлению газета награждена орденом Трудового Красного знамени. Освобожден за отсутствие идеологической зрелости, ошибочность защиты «космополитов» от искусства. Впоследствии - заместитель главного редактора газеты «Советская Россия», главный редактор газеты «Труд», член редколлегии газеты «Правда». Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени. Скончался в 1983 году.
ДМИТРИЙ ГОРЮНОВ
Родился в 1915 году в г.Коврове Владимирской области. Работал токарем, редактором заводской многотиражки. Ответственный редактор Иваново-Вознесенской молодежной газеты «Ленинец», секретарь Ивановского областного комитета ВЛКСМ, в годы Великой Отечественной войны - ответственный сотрудник ЦК ВЛКСМ, затем слушатель Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Декабрь 1950 - апрель1957 г.г. – главный редактор «Комсомольской правды». При нем газета награждена вторым орденом Трудового Красного знамени. Вернул газете остроту и принципиальность публикаций, вырастил плеяду журналистов-«шестидесятников». Впоследствии - заместитель главного редактора газеты "Правда", Генеральный директор ТАСС, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР. Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Кении и Марокко. Награжден орденом Ленина. Скончался в 1992 году.
АЛЕКСЕЙ АДЖУБЕЙ
Родился в 1924 году в Самарканде, вырос в Москве. Окончил три курса Школы-студии МХАТ, факультет журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова. В «Комсомольской правде» (1951-59) - практикант, стажер, зав. отделом литературы и искусства, член редколлегии «Комсомольской правды». Апрель 1957 – май 1959 г.г. – главный редактор «Комсомольской правды».
Проявил себя ярким реформатором печати, значительно обновил и европеизировал лицо и стиль газеты. Являясь зятем первого секретаря ЦК КПСС Н.Хрущева, входил в политический истеблишмент страны. Возглавив газету "Известия", превратил ее в один из символов «хрущевской оттепели». Был инициатором создания Союза журналистов СССР. Член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, лауреат Ленинской премии. После снятия Хрущова был сотрудником журнала «Советский Союз». В годы перестройки основал газету «Третье сословие».
Лауреат звания СЖР «Легенда отечественной журналистики».
Скончался в 1993 году.
Проявил себя ярким реформатором печати, значительно обновил и европеизировал лицо и стиль газеты. Являясь зятем первого секретаря ЦК КПСС Н.Хрущева, входил в политический истеблишмент страны. Возглавив газету "Известия", превратил ее в один из символов «хрущевской оттепели». Был инициатором создания Союза журналистов СССР. Член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, лауреат Ленинской премии. После снятия Хрущова был сотрудником журнала «Советский Союз». В годы перестройки основал газету «Третье сословие».
Лауреат звания СЖР «Легенда отечественной журналистики».
Скончался в 1993 году.
ЮРИЙ ВОРОНОВ
Родился в 1929 году в Ленинграде. Пережил блокаду города, в 14 лет награжден медалью "За оборону Ленинграда". Был секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ (одновремнно заместителем главного редактора молодежной газеты «Смена»), затем заместителем главного редактора "Комсомольской правды". Май 1959 – декабрь 1965 – главный редактор «Комсомольской правды». При нем проходили знаменитые газетные дискуссии 60-х годов о «физиках и лириках», освещение космического полета Ю. Гагарина. Освобожден после публикации компромата на директора китобойной флотилии «Слава», послужившей предметом рассмотрения на Политбюро ЦК КПСС. Впоследствии - ответственный секретарь, заведующий корпунктом в ГДР и Западном Берлине газеты «Правда», заведующий отделом культуры ЦК КПСС, главный редактор журнала «Знамя», «Литературной газеты». За сборник стихов «Блокада» (1973) удостоен Государственной премии РСФСР им. М.Горького. Скончался в 1993 году.
БОРИС ПАНКИН
Родился в 1931 году в г.Фрунзе, вырс в Москве. В «Комсомольской правде» (1953-73) практикант, стажер, литсотрудник, редактор отдела, член редколлегии, заместитель главного редактора «Комсомольской правды». Декабрь 1965 – август 1973 г.г. – главный редактор «Комсомольской правды». Продолжал линию «шестидесятничества» в журналистике, инициировал создание при редакции Института общественного мнения Б. Грушина, поддерживал «педагогику новаторства» С.Соловейчика, воспитал плеяду очеркистов, вошедших в классику ХХ века, - В.Пескова, Я.Голованова, И.Руденко, Л. Графовой, Г.Бочарова, Ю.Роста. Автор биографического романа о К.Симонове. Лауреат Государственной премии СССР в области литературы (1982). Впоследствии - создатель и Председатель правления Всесоюзного агентства по авторским правам. Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Швеции, Чехословакии. Посол России - в Англии. Последний министр иностранных дел СССР.
ЛЕВ КОРНЕШОВ
Родился в 1934 году в Харьковской области. Секретарь Кировоградского обкома комсомола Украины, помощник первого секретаря ЦК ВЛКСМ. Главный редактор журнала «Юный натуралист», заместитель главного редактора журнала «Молодой коммунист», заместитель главного редактора "Комсомольской правды". Август
1973 – апрель 1978 г.г. – главный редактор «Комсомольской правды».Уделял большое значение военно-патриотическому и антифашистскому воспитанию молодежи, судьбе ветеранов Великой Отечественной войны, теме ударного строительства, в т.ч. БАМа и города Гагарин. При нем газета получила орден Октябрьской революции (1975). Впоследствии - заместитель главного редактора газеты "Известия", политический обозреватель «Российской газеты». Автор четырех художественных и около тридцати документальных фильмов. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Скончался в 2005 году.
1973 – апрель 1978 г.г. – главный редактор «Комсомольской правды».Уделял большое значение военно-патриотическому и антифашистскому воспитанию молодежи, судьбе ветеранов Великой Отечественной войны, теме ударного строительства, в т.ч. БАМа и города Гагарин. При нем газета получила орден Октябрьской революции (1975). Впоследствии - заместитель главного редактора газеты "Известия", политический обозреватель «Российской газеты». Автор четырех художественных и около тридцати документальных фильмов. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Скончался в 2005 году.
ВАЛЕРИЙ ГАНИЧЕВ
Родился в 1933 году в Новгородской области. Работал сельским учителем, занимался комсомольской и журналистской работой в г.Николаеве. Заместитель главного редактора журнала «Молодая гвардия», заведующий Отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ, директор издательства «Молодая гвардия». Апрель 1978 – декабрь 1980 г.г. – главный редактор «Комсомольской правды». Доктор исторических наук, профессор. Впоследствии - главный редактор журналов "Роман-газета", «Роман-журнал. XXI век». Председатель Правления Союза писателей России (с 1994 года). Cпособствовал канонизации русского флотоводца, адмирала Фёдора Ушакова. Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Почета, Дружбы. Скончался в 2018 году.
ГЕННАДИЙ СЕЛЕЗНЕВ
Родился в 1947 году, окончил ПТУ в Ленинградской области, работал токарем, служил в армии. После окончания факультета журналистики ЛГУ - на комсомольской работе, затем зам главного, главный редактор ленинградской молодежной газеты "Смена", член бюро ЦК ВЛКСМ. Январь 1981 – декабрь 1988 г.г. – главный редактор «Комсомольской правды». При немдоминировала взвешенная, умеренно-критическая позиция публикаций. Вместе с тем именно он взял на себя ответственность за публикацию в 1984 году не разрешенного цензурой очерка Инны Руденко «Долг», ставшего предметом рассмотрения на Политбюро ЦК КПСС. Впоследствии - главный редактор "Учительской газеты", газеты "Правда". Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго и третьего созывов. Награжден орденами Дружбы народов, За заслуги перед Отечеством II степени. Лауреат звания СЖР «Легенда отечественной журналистики».
Скончался в 2015 году.
Скончался в 2015 году.
ВЛАДИСЛАВ ФРОНИН
Родился в 1952 году в Ульяновской области, окончил факультет журналистики Казанского университета. Практикант, затем стажер, корреспондент, зав.отделом, член редколлегии, заместитель главного редактора «Комсомольской правды». Заведующий отделом пропаганды ЦК ВЛКСМ. Декабрь 1988 – октябрь 1994 г.г. – главный редактор «Комсомольской правды». При нем газета попадает в «Книгу рекордов Гиннесса» (май 1990 г.) за абсолютный рекорд тиража (21,9 млн.экз.) среди ежедневных газет мира, перестает быть органом ЦК ВЛКСМ, проходит стадию акционирования. Впоследствии – первый заместитель главного редактора, главный редактор «Российской газеты». Создатель ряда новых информационных технологий, в т.ч. «прямой линии». Лауреат звания СЖР «Легенда отечественной журналистики».
ВАЛЕРИЙ СИМОНОВ
Родился в 1953 году, окончил факультет журналистики Иркутского университета. Главный редактор читинской молодежной газеты "Комсомолец Забайкалья", заведующий сектором печати ЦК ВЛКСМ, заместитель, первый заместитель главного редактора "Комсомольской правды", первый председатель Совета АОЗТ "Комсомольская правда". Октябрь 1994 – май 1997 г.г. – главный редактор «Комсомольской правды».При нем происходил окончательный переход газеты на коммерческие рельсы, создание рекламных вкладок, региональной сети представительств КП на местах. Стал выходить пятничный номер, т.н. «толстушка». Впоследствии - главный редактор газет "Деловой вторник", "Трибуна", журнала "Экономическая безопасность". Многие годы возглавляет газету "Труд".
ВЛАДИМИР МАМОНТОВ
Родился в 1952 году во Владивостоке, окончил отделение журналистики Дальневосточного университета. Заведующий отделом краевой газеты «Красное знамя», собственный корреспондент газеты «Советская Россия» по Хабаровскому краю, редактор отдела, член редколлегии, ответственный секретарь, шеф-редактор пятничного номера «Комсомольской правды». Май 1998 – апрель 1999 г.г. – главный редактор «Комсомольской правды». Апрель 1999 – ноябрь 2005 г.г. - шеф-редактор «Комсомольской правды». Впоследствии – главный редактор, президент редакции газеты «Известия», директор фонда «Разумный интернет», генеральный директор радио «Говорит Москва».
ВЛАДИМИР СУНГОРКИН
Родился в 1954 году в Хабаровске, окончил отделение журналистики Дальневосточного университета. Собственный корреспондент «Комсомольской правды» в зоне строительства БАМа, по Хабаровскому краю и Магаданской области, собкор газеты «Советская Россия» по Приморскому краю и Сахалинской области, заведующий отделом, член редколлегии, заместитель главного редактора «Комсомольской правды», главный исполнительный директор, председатель Совета акционеров АОЗТ «Комсомольская правда». Май 1997 года – наст.время – главный редактор «Комсомольской правды».
Несколько деталей из жизни первых главных редакторов «Комсомолки»
За 90 лет издания «Комсомольской правды» у нее было 22 официальных главных редактора, довольно долго называвшимися ответственными

1928 год.
Редакция "Комсомольской правды"
Редакция "Комсомольской правды"
Были среди них фигуры ключевые, олицетворявшие свое время и позицию газеты. Были менее заметные, продолжавшие линию ключевых или, напротив, поставленные изменить ее, но не особенно повлиявшие на газету, всегда имевшую свое неизменное лицо борца за справедливость. К сожалению, в Википедии все напутано. Первым главным там назван совсем не тот человек, да и про других – одни неточности. Клуб журналистов «Комсомольской правды», отмечающий свое десятилетие, провел в этом смысле полезную очистительную работу. Сегодня мы уже можем многое сказать о них.
Первая волна Главных (Александр Слепков, Тарас Костров, Иван Бобрышев) – это отцы-основатели газеты, типичные революционеры-марксисты, романтики коммунистической идеи, которую понимали тогда как новое общество новых людей. Утописты. Но бодрые, живые, очень молодые люди, закаленные подпольной работой и внутрипартийными дискуссиями. Они и были, собственно, партийцами, не отделяли себя от ее судьбы.
Для первого из них – двадцатипятилетнего Александра Слепкова, выученика вождя либерального крыла партии Николая Бухарина, «запуск» всесоюзной молодежной газеты было одним из его партийных поручений. Он разрабатывал концепцию, идеологию газеты, внедрил «ершистость» стиля, выпускал первые номера. Между прочим, в 20-х годах шла нешуточная борьба за обладание молодежным ресурсом, и «Комсомолка» активно ввязалась в бой за самостоятельность своего контингента. Слепков, продержавшийся на посту Главного только пять месяцев и отстраненный по настоянию Сталина за публикацию бухаринских статей о нэпе, сумел заложить в газету основное: право молодых на собственный мир, не зависимый от мира партийных и профсоюзных боссов. Из «Комсомолки» он ушел в редколлегию «Правды», журнала «Большевик», писал теоретические работы, преподавал. В 1928 году выступил в Комакадемии с имевшими громкий общественный резонанс тезисами о самокритике. В выдвинутом партией лозунге развёртывания самокритики он наряду с позитивом усмотрел и опасность провокаций, возможность дискредитации людей, неугодных власти. И ведь был, как мы теперь понимаем, абсолютно прав. Тезисы получили резкую отповедь Сталина. Слепков навсегда был отстранён от работы в центральных органах печати, сослан преподавать на периферию, а с 1932 по 1937 годы томился по тюрьмам с ярлыком антисоветчика и террориста. Повесился в тюрьме в знак протеста против процесса над правыми и Бухариным. Похоронен на арестантском кладбище Верхнеуральского политизолятора.
Его изображения были, как тогда практиковалось, отовсюду изъяты. Из истории печати он был вычеркнут. И только благодаря усилиям журналиста «Комсомолки» Татьяны Яковлевой, заново открывшей нам правду о первом главном, имя Слепкова вновь появилось. А вот снимок остался единственный – на одной групповой фотографии бухаринских учеников. Качество неважное, но все равно видно и что молод, и что романтик, и умница. Его жизнь вместилась в 38 лет. Скончались партия и комсомол. Забыты споры про уклоны и самокритику. А созданная Сашей Слепковым «ершистая» газета живет уже почти век.
Второй Главный, двадцатичетырехлетний Александр Мартыновский, взявший себе псевдоним Тарас Костров, был призван с Украины, хотя вырос в семье ссыльных народовольцев в Сибири, в Чите. В пятнадцать лет был подпольщиком - агентом ленинской «Искры» в Одессе, сразу после революции, в восемнадцать, стал редактором Одесской губернской газеты, потом перебрался в Киев, главредом газеты «Пролетарская правда». Неудивительно, что именно его ЦК комсомола как опытного и политически подкованного газетчика выдвинул руководить своей центральной газетой. 3 сентября 1925 года он был утвержден новым Главным. Между прочим, несмотря на мягкий характер, юмор, глубокую эрудированность и профессиональныую изобретательность, что отмечали все сотрудники газеты, Мартыновский придерживался радикальных взглядов на роль печати, требовал от журналистов острой критики, невзирая на должности, «динамитных ударов», «карания недостойных», принципиальности и боевитости. Именно при нем произойдет взлет «Комсомолки», формирование ее многих традиции и фирменного стиля.
Независимая и острая позиция газеты, «шумливость» и непослушность, увлечение «изобличениями», сенсационностью, «легомысленность», «перегибы» нередко критиковались партийными руководителями. Причиной смещения стала излишняя самостоятельность газеты, вышедшей, по мнению Политбюро ВКП (б), «несмотря на предупреждения» из-под партийного контроля. Мартыновский возглавил ненадолго издательство «Молодая гвардия» и, скончавшись от туберкулеза в 1930 году, избежал репрессий. Его портрет сканирован с группового снимка первой редакции «Комсомолки», сделанном в 1928 году, когда газета отмечала свое трехлетие.
Сменивший Тараса Кострова двадцатипятилетний Иван Бобрышев, прозванный в редакции «неистовым» за «ураганную силу убеждения», начинал когда-то на Смоленщине, создав там областную газету «Юный товарищ», а затем став в 22 года зам.главного в областной партийной газете «Рабочий путь». Год проработал заведующим отделом печати Лениградского губкома ВЛКСМ, а уже в 1927 году стал заместителем Главного в «Комсомолке». Вошел в команду как патрон в обойму. И получив назначение Главного, от которого отказался, да отставку не приняли, боролся за восстановление Кострова, отстаивал право газеты на собственное мнение в текущей внутрипартийной борьбе, «самовольно» опубликовал несколько «левоуклонистских» статей. Через неполных девять месяцев был отправлен на учебу в институт красной профессуры, откуда фактически сослан начальником политотдела Тбилисского отделения железной дороги. В 1936 году он заполнял партийную учетную карточку, на которой сохранился этот его портрет – в железнодорожной форме, недоверчиво-ожесточенный взгляд. Тонкое славянское лицо. В 1937 году репрессирован и погиб.
А редакция «Комсомольской правды» после смещения Бобрышева подверглась первому в своей истории разгрому, в котором активное участие принял только что избранный членом Политбюро ЦК ВКП (б) и посаженный «на Москву» Лазарь Каганович.
Шестерых Главных «Комсомолка» потеряла в годы сталинских репрессий. Один из них – Владимир Бубекин, награжденный в 1935 году орденом Красной Звезды — “за выдающиеся заслуги в деле улучшения боевого органа комсомола «Комсомольской Правды», друг лидера комсомола Александра Косарева, не побоявшийся всю мощь главной молодежной газеты обрушить на практику политических репрессий, был арестован 28 октября 1937 года прямо в своем рабочем кабинете. Как известно, в старом издательском корпусе на улице Правды, 24, где на шестом этаже располагалась редакция и «Комсомольской правды», из кабинетов главных в типографию вел отдельный лифт. Вот через него забирали арестованных так, что те просто изчезали – и никто не видел, как.
Но, впрочем, это уже другая плеяда Главных и другая история.
Первая волна Главных (Александр Слепков, Тарас Костров, Иван Бобрышев) – это отцы-основатели газеты, типичные революционеры-марксисты, романтики коммунистической идеи, которую понимали тогда как новое общество новых людей. Утописты. Но бодрые, живые, очень молодые люди, закаленные подпольной работой и внутрипартийными дискуссиями. Они и были, собственно, партийцами, не отделяли себя от ее судьбы.
Для первого из них – двадцатипятилетнего Александра Слепкова, выученика вождя либерального крыла партии Николая Бухарина, «запуск» всесоюзной молодежной газеты было одним из его партийных поручений. Он разрабатывал концепцию, идеологию газеты, внедрил «ершистость» стиля, выпускал первые номера. Между прочим, в 20-х годах шла нешуточная борьба за обладание молодежным ресурсом, и «Комсомолка» активно ввязалась в бой за самостоятельность своего контингента. Слепков, продержавшийся на посту Главного только пять месяцев и отстраненный по настоянию Сталина за публикацию бухаринских статей о нэпе, сумел заложить в газету основное: право молодых на собственный мир, не зависимый от мира партийных и профсоюзных боссов. Из «Комсомолки» он ушел в редколлегию «Правды», журнала «Большевик», писал теоретические работы, преподавал. В 1928 году выступил в Комакадемии с имевшими громкий общественный резонанс тезисами о самокритике. В выдвинутом партией лозунге развёртывания самокритики он наряду с позитивом усмотрел и опасность провокаций, возможность дискредитации людей, неугодных власти. И ведь был, как мы теперь понимаем, абсолютно прав. Тезисы получили резкую отповедь Сталина. Слепков навсегда был отстранён от работы в центральных органах печати, сослан преподавать на периферию, а с 1932 по 1937 годы томился по тюрьмам с ярлыком антисоветчика и террориста. Повесился в тюрьме в знак протеста против процесса над правыми и Бухариным. Похоронен на арестантском кладбище Верхнеуральского политизолятора.
Его изображения были, как тогда практиковалось, отовсюду изъяты. Из истории печати он был вычеркнут. И только благодаря усилиям журналиста «Комсомолки» Татьяны Яковлевой, заново открывшей нам правду о первом главном, имя Слепкова вновь появилось. А вот снимок остался единственный – на одной групповой фотографии бухаринских учеников. Качество неважное, но все равно видно и что молод, и что романтик, и умница. Его жизнь вместилась в 38 лет. Скончались партия и комсомол. Забыты споры про уклоны и самокритику. А созданная Сашей Слепковым «ершистая» газета живет уже почти век.
Второй Главный, двадцатичетырехлетний Александр Мартыновский, взявший себе псевдоним Тарас Костров, был призван с Украины, хотя вырос в семье ссыльных народовольцев в Сибири, в Чите. В пятнадцать лет был подпольщиком - агентом ленинской «Искры» в Одессе, сразу после революции, в восемнадцать, стал редактором Одесской губернской газеты, потом перебрался в Киев, главредом газеты «Пролетарская правда». Неудивительно, что именно его ЦК комсомола как опытного и политически подкованного газетчика выдвинул руководить своей центральной газетой. 3 сентября 1925 года он был утвержден новым Главным. Между прочим, несмотря на мягкий характер, юмор, глубокую эрудированность и профессиональныую изобретательность, что отмечали все сотрудники газеты, Мартыновский придерживался радикальных взглядов на роль печати, требовал от журналистов острой критики, невзирая на должности, «динамитных ударов», «карания недостойных», принципиальности и боевитости. Именно при нем произойдет взлет «Комсомолки», формирование ее многих традиции и фирменного стиля.
Независимая и острая позиция газеты, «шумливость» и непослушность, увлечение «изобличениями», сенсационностью, «легомысленность», «перегибы» нередко критиковались партийными руководителями. Причиной смещения стала излишняя самостоятельность газеты, вышедшей, по мнению Политбюро ВКП (б), «несмотря на предупреждения» из-под партийного контроля. Мартыновский возглавил ненадолго издательство «Молодая гвардия» и, скончавшись от туберкулеза в 1930 году, избежал репрессий. Его портрет сканирован с группового снимка первой редакции «Комсомолки», сделанном в 1928 году, когда газета отмечала свое трехлетие.
Сменивший Тараса Кострова двадцатипятилетний Иван Бобрышев, прозванный в редакции «неистовым» за «ураганную силу убеждения», начинал когда-то на Смоленщине, создав там областную газету «Юный товарищ», а затем став в 22 года зам.главного в областной партийной газете «Рабочий путь». Год проработал заведующим отделом печати Лениградского губкома ВЛКСМ, а уже в 1927 году стал заместителем Главного в «Комсомолке». Вошел в команду как патрон в обойму. И получив назначение Главного, от которого отказался, да отставку не приняли, боролся за восстановление Кострова, отстаивал право газеты на собственное мнение в текущей внутрипартийной борьбе, «самовольно» опубликовал несколько «левоуклонистских» статей. Через неполных девять месяцев был отправлен на учебу в институт красной профессуры, откуда фактически сослан начальником политотдела Тбилисского отделения железной дороги. В 1936 году он заполнял партийную учетную карточку, на которой сохранился этот его портрет – в железнодорожной форме, недоверчиво-ожесточенный взгляд. Тонкое славянское лицо. В 1937 году репрессирован и погиб.
А редакция «Комсомольской правды» после смещения Бобрышева подверглась первому в своей истории разгрому, в котором активное участие принял только что избранный членом Политбюро ЦК ВКП (б) и посаженный «на Москву» Лазарь Каганович.
Шестерых Главных «Комсомолка» потеряла в годы сталинских репрессий. Один из них – Владимир Бубекин, награжденный в 1935 году орденом Красной Звезды — “за выдающиеся заслуги в деле улучшения боевого органа комсомола «Комсомольской Правды», друг лидера комсомола Александра Косарева, не побоявшийся всю мощь главной молодежной газеты обрушить на практику политических репрессий, был арестован 28 октября 1937 года прямо в своем рабочем кабинете. Как известно, в старом издательском корпусе на улице Правды, 24, где на шестом этаже располагалась редакция и «Комсомольской правды», из кабинетов главных в типографию вел отдельный лифт. Вот через него забирали арестованных так, что те просто изчезали – и никто не видел, как.
Но, впрочем, это уже другая плеяда Главных и другая история.

О легендах «Комсомольской правды»
Полезная журналистика Владимира Сунгоркина
Утром 14 сентября 2022 года кто-то позвонил, не веря, чтобы уточнить: что за чушь передают, будто умер Сунгоркин. И я тут же откликнулась: да брось, какая-то ерунда, фейк, такого быть не может…
И сегодня, спустя уже некрологи и похороны, поминки и сорокоусты, появление нового главреда и проведение генерального аудита, смерть Владимира Сунгоркина по-прежнему кажется чем-то нереальным и невозможным. Другая жизнь, без него, течет своим чередом, а та жизнь, которая связана с ним, тоже никуда не делась, она инерционно продолжается в наших жизнях, завязанных на его присутствие. Столько замыслено, запущено в ход, согласовано, утверждено, поддержано. И как это его нет? Есть. И, наверное, долго еще будет. Эхо его движения будет звучать теперь десятилетия.
И сегодня, спустя уже некрологи и похороны, поминки и сорокоусты, появление нового главреда и проведение генерального аудита, смерть Владимира Сунгоркина по-прежнему кажется чем-то нереальным и невозможным. Другая жизнь, без него, течет своим чередом, а та жизнь, которая связана с ним, тоже никуда не делась, она инерционно продолжается в наших жизнях, завязанных на его присутствие. Столько замыслено, запущено в ход, согласовано, утверждено, поддержано. И как это его нет? Есть. И, наверное, долго еще будет. Эхо его движения будет звучать теперь десятилетия.

Феномен Сунгоркина пока, на первых порах, объясняется «человеческим фактором». Он был личностью интересной, сложной, многомерной, неоднозначной. Но при этом однозначно не подлым, прямым, держащим слово. Чистоплотным.
Он был лидером от природы. Любил это дело: возглавлять, принимать решения, отдавать команды, раздавать поручения, инициировать, контролировать, держать в тонусе. Гаджеты значительно облегчили задачу управлять на расстоянии и одновременно всеми. С гаджетом он сидел на приемах и у таежного костра, в нем смотрел видео и слушал радио, читал свежий номер и подписывал письма. Был фантастически сведущ в происходящем: в мире, в стране, в холдинге, в бухгалтерии и в конкретных нуждах сотрудников.
Он был лидером от природы. Любил это дело: возглавлять, принимать решения, отдавать команды, раздавать поручения, инициировать, контролировать, держать в тонусе. Гаджеты значительно облегчили задачу управлять на расстоянии и одновременно всеми. С гаджетом он сидел на приемах и у таежного костра, в нем смотрел видео и слушал радио, читал свежий номер и подписывал письма. Был фантастически сведущ в происходящем: в мире, в стране, в холдинге, в бухгалтерии и в конкретных нуждах сотрудников.
Был не против, когда его называли «медиамагнатом», то есть очень крупным начальником, «большим человеком» в сфере бизнеса и управления. Ему хватало иронии воспринимать это с юмором, но хватало и понимания своей цены, чтобы гордиться. Снобизма и спеси в нем не было, но место по рангу считал важным и пребывание обеспечивал. Только этим объясняется залп его высших журналистских званий в последние годы, когда их вдруг стали получать другие медианачальники.
Конечно, он был классическим примером «селфмейдмена», человека, сделавшего себя. Иногда он подыгрывал шутке об отце-адмирале. На самом деле его отец был мичманом речной флотилии на Амуре, а жили они в предместье Хабаровска. Вырастал оттуда. Избы любил больше, чем дворцы.
С юности он занимался походами, причем экстремальными: спалеологией, например. Но особенно любил сплав. Стоял у руля, выбирал путь, обходил пороги, руководил командой. Стремнина его манила и завораживала. Риски воодушевляли. Но никогда он не заигрывал с ними, все продумывал, просчитывал, предусматривал заранее. В этом был педантом и придирой.
Он так и шел по жизни и в карьере: плотогоном. Квалифицированным и подготовленным.
Конечно, он был классическим примером «селфмейдмена», человека, сделавшего себя. Иногда он подыгрывал шутке об отце-адмирале. На самом деле его отец был мичманом речной флотилии на Амуре, а жили они в предместье Хабаровска. Вырастал оттуда. Избы любил больше, чем дворцы.
С юности он занимался походами, причем экстремальными: спалеологией, например. Но особенно любил сплав. Стоял у руля, выбирал путь, обходил пороги, руководил командой. Стремнина его манила и завораживала. Риски воодушевляли. Но никогда он не заигрывал с ними, все продумывал, просчитывал, предусматривал заранее. В этом был педантом и придирой.
Он так и шел по жизни и в карьере: плотогоном. Квалифицированным и подготовленным.
Недалекие недруги называли его циником и скупердяем. Ни тем, ни другим он не был. Он был расчетливым, то есть привык к мышлению бизнесмена. Прикидывал, что ему даст любая затея. И по прямоте характера сразу озвучивал свой ответ, без дипломатии. Упрекнуть его можно было только в этой прямолинейности или в ошибочности расчета. Не всегда ведь ближняя выгода обеспечивает долговременную, где может оказаться упущенной. Но Сунгоркин поддавался уговорам, умел слышать и принимать аргументы. И менять решения.
Как выяснилось, он, несмотря на прижимистость, помогал и помог такому количеству разного народа, что, скорей, мог прослыть добряком. Это тоже не про него. Он казался добрым, потому что был незлым. И отзывчивым.
Он НЕ МОГ не помочь.
Для него помочь, когда это требовалось, было рефлексом. Но помогать всем подряд он не собирался, проверял, насколько и в каких объемах помощь действительно необходима. Лишнего не давал.
Он умел сочувствовать, входить в положение, жалеть, любоваться, доставлять удовольствие. Сохранял эмпатию как живую часть своей натуры. Сам нуждался в ней и с благодарностью принимал. Но только в случае полной искренности.
Лестью не прельщался. Однако признание заслуг считал необходимым и правильным. В том числе и материальное. Возможно, как всякий бизнесмен, преувеличивая в этом роль денег. А, возможно, не будучи алчным, так и не полюбил деньги как материю, придавая им служебную функцию наградной медали.
Даже недруги, если были умны, называли его просто прагматиком, здравомыслящим и рациональным. И предпочитали с ним дружить. Тем более, что дружить он умел.
Как выяснилось, он, несмотря на прижимистость, помогал и помог такому количеству разного народа, что, скорей, мог прослыть добряком. Это тоже не про него. Он казался добрым, потому что был незлым. И отзывчивым.
Он НЕ МОГ не помочь.
Для него помочь, когда это требовалось, было рефлексом. Но помогать всем подряд он не собирался, проверял, насколько и в каких объемах помощь действительно необходима. Лишнего не давал.
Он умел сочувствовать, входить в положение, жалеть, любоваться, доставлять удовольствие. Сохранял эмпатию как живую часть своей натуры. Сам нуждался в ней и с благодарностью принимал. Но только в случае полной искренности.
Лестью не прельщался. Однако признание заслуг считал необходимым и правильным. В том числе и материальное. Возможно, как всякий бизнесмен, преувеличивая в этом роль денег. А, возможно, не будучи алчным, так и не полюбил деньги как материю, придавая им служебную функцию наградной медали.
Даже недруги, если были умны, называли его просто прагматиком, здравомыслящим и рациональным. И предпочитали с ним дружить. Тем более, что дружить он умел.
Его имя в перьевой журналистике занимало славную строку крепкого профессионала. В рабочем отделе «Комсомолки» выучивали именно таких: умелых организаторов, владеющих точным словом. Иногда бранным. И не всегда драгоценным. Для превращения в «золотые перья» им не хватало себялюбия. И было слишком много аналитики, ответственности, долга.
Там журналисты называли себя «социальными архитекторами» и пытались предложить обществу реформаторские идеи. Наверно, поэтому из рабочего отдела вырастали успешные главные редакторы.
Это с одной стороны.
С другой - легендарный «дух Шестого этажа». Дух фрондёрского свободомыслия, место которому находилось чаще лишь между строк. Это особая школа правдивости и сопротивления. Даже заметка «во славу» могла быть вопреки официальному пафосу. А открытую критику приходилось обкладывать неоспоримыми и лучше - задокументированными аргументами. Поэтому надо было самообразовывать себя до глубокой эрудиции.
В той «Комсомолке» 60-80-х годов была своя ментальность. Культ штучного творчества. Соревнование вместо зависти. Братские отношения. Командный труд. Культ читательского письма. И главное - там вызревала порода журналиста, для которого человек как таковой был главной ценностью. Все, что против человека, становилось мишенью. Это не декларировалось, но было атмосферой, средой, духовным контекстом.
Сунгоркин пришел в «Комсомолку» на практику весной 1974 года. Он хотел быть в ней, ощущал ее родной. Правда, его манили и респектабельные «Известия», однако с ними роман не сложился. На четыре года уходил собкором ненашевской «Советской России». Но с 1985 года вновь в «КП» - и до конца жизни. Начиная с первой практики, общий стаж в ней 44 года. Дольше работали только Руденко, Голованов, Репин и Песков, легендарные «золотые перья» Шестого этажа, которых он же и печатал до их заката.
Там журналисты называли себя «социальными архитекторами» и пытались предложить обществу реформаторские идеи. Наверно, поэтому из рабочего отдела вырастали успешные главные редакторы.
Это с одной стороны.
С другой - легендарный «дух Шестого этажа». Дух фрондёрского свободомыслия, место которому находилось чаще лишь между строк. Это особая школа правдивости и сопротивления. Даже заметка «во славу» могла быть вопреки официальному пафосу. А открытую критику приходилось обкладывать неоспоримыми и лучше - задокументированными аргументами. Поэтому надо было самообразовывать себя до глубокой эрудиции.
В той «Комсомолке» 60-80-х годов была своя ментальность. Культ штучного творчества. Соревнование вместо зависти. Братские отношения. Командный труд. Культ читательского письма. И главное - там вызревала порода журналиста, для которого человек как таковой был главной ценностью. Все, что против человека, становилось мишенью. Это не декларировалось, но было атмосферой, средой, духовным контекстом.
Сунгоркин пришел в «Комсомолку» на практику весной 1974 года. Он хотел быть в ней, ощущал ее родной. Правда, его манили и респектабельные «Известия», однако с ними роман не сложился. На четыре года уходил собкором ненашевской «Советской России». Но с 1985 года вновь в «КП» - и до конца жизни. Начиная с первой практики, общий стаж в ней 44 года. Дольше работали только Руденко, Голованов, Репин и Песков, легендарные «золотые перья» Шестого этажа, которых он же и печатал до их заката.
В журналистике Сунгоркин прожил несколько эпох.
К Михаилу Ненашеву, как и все остальные «шестиэтажники», он перешел «поднять планку». Это была газета ЦК партии. То есть издание высшей власти. При этом Ненашев сумел на советской почве создать удивительную газету «абсолютной народной демократии». Все интересы этого СМИ были сопряжены не с партией, а именно с народом, с его потребностями и запросами. Главред требовал оценивать жизнь без лакировки и так же, без обиняков, объяснять суть социальных деформаций. Это была великая школа журналистики массового самосознания. Народная трибуна в чистом виде. «Сов. Россия» казалась неимоверно острой, на десятилетие опередив время предстоящей гласности.
И все-таки она осталась в истории лишь просветителем. Она объясняла противоречия. А «Комсомолка» искала выход. Ее проекты совершенствования общества и человека были порой завиральными, но они были и воплощались, уж как получалось.
Сунгоркин вернулся в «КП», уже не собкором по БАМу и Дальнему Востоку, а на редакционный этаж - рулить ее рабочедельским «локомотивом».
Он хотел действовать. И время сработало на него, потому что началась перестройка.
Обладая повышенной чуткостью к тенденциям, Сунгоркин быстро сориентировался в реалиях 90-х, освоил коммерческий пласт медиапроизводства, запустив его уже как бизнес. И так же быстро вычислил заветную экономическую триаду нового времени: «спрос-рейтинг-реклама (деньги)». Пресса тогда ради спроса неизбежно опустила уровень. «Комсомолка» и тут сумела удержаться на грани. Парадоксально, но помог именно прежний советский опыт: креатив в сочетании с проектным умением. С той же энергией, с какой прежде раскручивали ударный труд, стали раскпучивать рыночные отношения. Штормовое десятилетие 90-х позволило выжить, найти новые опоры для развития, обновить стиль, команду и собственников.
Сунгоркин прошел все три эпохальные ипостаси российской журналистики.
На выходе получился медиамагнат уникального свойства: креативный и деятельный журналист и бизнесмен, успех которого был в его неразрывной связке с аудиторией. С народом он научился разговаривать и так, и сяк, давал ход любому мнению по любому поводу. В разговорной понятной манере. Если надо, с комментарием.
Вслед за реалиями газета стала серьезней, добавив в контент позитива и стратегии. К бумажным номерам прибавились электронная версия, радио, видео, книги, региональная сеть, рекламные приложения, спецпроекты. Образовался огромный, мирового класса холдинг, названный акционерным издательским домом.
Сунгоркин был носителем и победителем всех наших журналистских эпох. Они ушли вместе с ним. Но он оставил и свою журналистику. Не менее эпохальную.
К Михаилу Ненашеву, как и все остальные «шестиэтажники», он перешел «поднять планку». Это была газета ЦК партии. То есть издание высшей власти. При этом Ненашев сумел на советской почве создать удивительную газету «абсолютной народной демократии». Все интересы этого СМИ были сопряжены не с партией, а именно с народом, с его потребностями и запросами. Главред требовал оценивать жизнь без лакировки и так же, без обиняков, объяснять суть социальных деформаций. Это была великая школа журналистики массового самосознания. Народная трибуна в чистом виде. «Сов. Россия» казалась неимоверно острой, на десятилетие опередив время предстоящей гласности.
И все-таки она осталась в истории лишь просветителем. Она объясняла противоречия. А «Комсомолка» искала выход. Ее проекты совершенствования общества и человека были порой завиральными, но они были и воплощались, уж как получалось.
Сунгоркин вернулся в «КП», уже не собкором по БАМу и Дальнему Востоку, а на редакционный этаж - рулить ее рабочедельским «локомотивом».
Он хотел действовать. И время сработало на него, потому что началась перестройка.
Обладая повышенной чуткостью к тенденциям, Сунгоркин быстро сориентировался в реалиях 90-х, освоил коммерческий пласт медиапроизводства, запустив его уже как бизнес. И так же быстро вычислил заветную экономическую триаду нового времени: «спрос-рейтинг-реклама (деньги)». Пресса тогда ради спроса неизбежно опустила уровень. «Комсомолка» и тут сумела удержаться на грани. Парадоксально, но помог именно прежний советский опыт: креатив в сочетании с проектным умением. С той же энергией, с какой прежде раскручивали ударный труд, стали раскпучивать рыночные отношения. Штормовое десятилетие 90-х позволило выжить, найти новые опоры для развития, обновить стиль, команду и собственников.
Сунгоркин прошел все три эпохальные ипостаси российской журналистики.
На выходе получился медиамагнат уникального свойства: креативный и деятельный журналист и бизнесмен, успех которого был в его неразрывной связке с аудиторией. С народом он научился разговаривать и так, и сяк, давал ход любому мнению по любому поводу. В разговорной понятной манере. Если надо, с комментарием.
Вслед за реалиями газета стала серьезней, добавив в контент позитива и стратегии. К бумажным номерам прибавились электронная версия, радио, видео, книги, региональная сеть, рекламные приложения, спецпроекты. Образовался огромный, мирового класса холдинг, названный акционерным издательским домом.
Сунгоркин был носителем и победителем всех наших журналистских эпох. Они ушли вместе с ним. Но он оставил и свою журналистику. Не менее эпохальную.
Постсоветский идеологический вакуум потребовал своей «заместительной терапии». В отсутствие общей идеи стали рождаться ее разнообразные паллиативы. Журналистика рассыпалась на либеральную и самодержавную, корпоративную и экспертную, шоу-светскую и рекламную, полемичную и аполитичную… Для каждой аудитории находился свой «лекарь». И свои панацеи от ощущения недосказанности, путаницы, растерянности. Свобода слова не запрещена, но от нее мало толку. Гражданское общество эмбрионально. Власть живет в своем чиновном мире. Народ в своем.
Сунгоркин тоже нащупал паллиативный рецепт: «Комсомольская правда» стала ПОЛЕЗНОЙ газетой. Она стала объяснять своему читателю, как теперь все устроено, что хорошо, что плохо, какие теперь правила жизни, как нужно действовать и понимать, что принимать, а с чем не соглашаться. Вокруг газеты возникала вполне внятная идеология - здорового обывательства, житейского здравомыслия. Доверчивая и доверяющая с прошлых времен аудитория получила модель сносной неглупой жизни. Без радикализма и реваншизма. Без кликушества и похабщины. Той жизни, которой хочет жить большинство.
Модель оказалась очень кстати. Как говорил Сунгоркин, «стала хитом». И вновь обеспечила «Комсомолке» тиражное лидерство.
Владимир Сунгоркин по факту оказался гением социального паллиатива для масс. Услышав такое, от души посмеялся бы. Он не любил, когда «много букв» и «много пафоса». Но как иначе объяснить, почему ему удавалось 25 лет держать (и удержать!) «Комсомольскую правду» на стремнине нашей журналистики…
Это не оценка его заслуг. Это факт. Уже исторический.
Через два с половиной года «Комсомольской правде» будет 100 лет. Обученная Сунгоркиным мощная команда никуда не денется, будет мчать дальше, до юбилея и после него.
И все же: как жаль! Он мог бы многое еще придумать, раскинув крыло полезной газеты над своим народом, плоть от плоти которого был сам.
Светлая долгая память!
Сунгоркин тоже нащупал паллиативный рецепт: «Комсомольская правда» стала ПОЛЕЗНОЙ газетой. Она стала объяснять своему читателю, как теперь все устроено, что хорошо, что плохо, какие теперь правила жизни, как нужно действовать и понимать, что принимать, а с чем не соглашаться. Вокруг газеты возникала вполне внятная идеология - здорового обывательства, житейского здравомыслия. Доверчивая и доверяющая с прошлых времен аудитория получила модель сносной неглупой жизни. Без радикализма и реваншизма. Без кликушества и похабщины. Той жизни, которой хочет жить большинство.
Модель оказалась очень кстати. Как говорил Сунгоркин, «стала хитом». И вновь обеспечила «Комсомолке» тиражное лидерство.
Владимир Сунгоркин по факту оказался гением социального паллиатива для масс. Услышав такое, от души посмеялся бы. Он не любил, когда «много букв» и «много пафоса». Но как иначе объяснить, почему ему удавалось 25 лет держать (и удержать!) «Комсомольскую правду» на стремнине нашей журналистики…
Это не оценка его заслуг. Это факт. Уже исторический.
Через два с половиной года «Комсомольской правде» будет 100 лет. Обученная Сунгоркиным мощная команда никуда не денется, будет мчать дальше, до юбилея и после него.
И все же: как жаль! Он мог бы многое еще придумать, раскинув крыло полезной газеты над своим народом, плоть от плоти которого был сам.
Светлая долгая память!


Подвиг главреда:
«Под личную ответственность!»
«Под личную ответственность!»
6 ноября 2022 года исполняется 75 лет Геннадию Селезневу, главреду «Комсомольской правды» в 1981−88 годах.
В истории «Комсомольской правды» было только два случая, когда газета выходила в свет без печати цензора. Главному редактору было предоставлено на случай форс-мажора право подписать выходящий номер «в свет» без участия цензора. Это было, скорей всего, чисто техническое право, идущее еще от времен Великой Отечественной. Никому и в голову не приходило использовать его, нарушать установленный порядок, когда первым прочитывал свежий номер перед его тиражированием дежурный цензор, сидящий тут же, в типографии. Следил он, разумеется, за соблюдением гостайн, у него под рукой всегда был кондуит с перечнем закрытых объектов и засекреченной продукции. Но негласно он следил и за лояльностью по отношению к политическому строю, действующей власти и коммунистической идеологии. Вот тут начинался разгул субъективизма. Каждый грамм критики буквально взвешивался цензором на предмет допустимости и наличия обобщений. Причем, наши типографские цензоры и не скрывали, что ими движет вовсе не гражданское рвение, а забота о личной безопасности: если будет виза с разрешением на публикацию от вышестоящей инстанции, он благодушно шлепал своей цензорской печатью по оттиску завтрашнего номера.
Однажды и у меня была похожая история, где в роли «вышестоящей инстанции» выступил Василий Михайлович Песков. Накануне очередного Дня космонавтики пришлось дежурить по выпуску и столкнуться с тем, что у статьи на тему космоса не оказалось отраслевой визы. Обнаружилось это в последний момент, практически в полночь. И, как назло, никого из сотрудников отдела науки разыскать не удалось. Даже мой отчаянный звонок по «вертушке»(телефону кремлевской связи) на дом к главному цензору Советского Союза результата не дал. Единственное, что он посоветовал: «Ставьте взамен любой космический материал Василия Пескова, ему я доверяю абсолютно». К счастью, Василий Михайлович тоже засиделся в тот вечер в своей проявочной кабинке в отделе иллюстрации. Все понял и через четверть часа положил на стол красивый портрет Гагарина из своего архива с душевным поздравлением по случаю Дня космонавтики. Наш цензор без разговоров поставил печать, еще и похвалил. Газета вышла в срок.
Но дважды случались экстраординарные ситуации, когда схватки с цензурой принимали характер боевых действий.
Но дважды случались экстраординарные ситуации, когда схватки с цензурой принимали характер боевых действий.
В середине 70-х появилась публикация Валерия Аграновского «Вольские аномалии» - об оргиях комсомольского актива в одном, отдельно взятом районе Приволжья. «Осторожный», как о нем вспоминал потом автор статьи, тогдашний главред «Комсомолки» Лев Корнешов придумал такой заголовок, чтобы притушить остроту факта: мол, такое - это явление единичное, нетипичное. Но цензор встал на дыбы: визируйте «наверху». Корнешов имел острый разговор с главой советского комсомола Евгением Тяжельниковым, главред кинул на стол вожаку свое удостоверение. Тяжельников отставки не принял. Но и визы не дал. И тогда Лев Константинович решил воспользоваться тем техническим правом самостоятельной бесцензурной подписи, которая де-юро у него имелась. Номер вышел в свет без печати. Его потом читатели передавали из рук в руки как раритет. Резонанс был невероятный: все прекрасно понимали, что пьянки и оргии на всевозможных мероприятиях - это давно уже повсеместная практика. Как ни странно, наш главред не пострадал: ЦК комсомола принял осуждающую вольских комсомольцев резолюцию, историю замяли и постарались забыть…
Надеюсь, теперь понятно, почему называю такой поступок главреда подвигом: ведь взять удар на себя, в открытую пойти ради правды против системы, поставить на кон свою карьеру, репутацию, судьбу - такое требует большого внутреннего мужества.
Надеюсь, теперь понятно, почему называю такой поступок главреда подвигом: ведь взять удар на себя, в открытую пойти ради правды против системы, поставить на кон свою карьеру, репутацию, судьбу - такое требует большого внутреннего мужества.
Геннадий Селезнев руководил КП в 80-е годы, застойно-благодушные в первой половине и оглушительно расхристанные перестройкой во второй. В журналистике у него свое плотное место: от ленинградской «Смены»до «Комсомолки» и затем в «Учительской газете» и «Правде».
Он был человеком стратегического кругозора, что помогло ему в девяностые занять и свое высокое место в большой политике. Пришел он туда как бы вслед за профессией: будучи главредом расколотой и погибающей «Правды», он вошел в руководство зюгановской КПРФ и вместе с партией был избран в Госдуму и в ее президиум,. Вскоре и его возглавил.
Стремительный и неожиданный даже для самого взлет. Но… Именно Геннадий Николаевич Селезнев стал отцом новейшего российского парламентаризма, два срока управлявшего ГД и заложившего все ее механизмы дееспособного законодательного процесса.
Он был человеком стратегического кругозора, что помогло ему в девяностые занять и свое высокое место в большой политике. Пришел он туда как бы вслед за профессией: будучи главредом расколотой и погибающей «Правды», он вошел в руководство зюгановской КПРФ и вместе с партией был избран в Госдуму и в ее президиум,. Вскоре и его возглавил.
Стремительный и неожиданный даже для самого взлет. Но… Именно Геннадий Николаевич Селезнев стал отцом новейшего российского парламентаризма, два срока управлявшего ГД и заложившего все ее механизмы дееспособного законодательного процесса.
В журналистике его звездный час выпал на работу в КП. Сам он не стремился в писатели, но зато хорошо понимал, что такое командная работа и на ком она держится. Он ценил кадры и любил людей. Селезнев привнес в редакцию долгожданную в тот момент стабильность, в правильном балансе распределил человеческий ресурс, с большим собственным интересом и энтузиазмом поддержал проекты отделов. Целое поколение «Комсомолки» обязано ему своими достижениями: от постов и наград до звездных публикаций и общения с великими. Рядом с ним, чрезвычайно вежливым и неподдельно уважительным, простым и открытым в общении, расположенным и к хлебосольству, к общему песнопению, к хорошей шутке, никто себя не чувствовал мелким. Это был, наверное, основной его дар: возвышать соратников, давать им ощущение своей значимости. Например, он целенаправленно растил себе сменщика из Владислава Фронина, который после управления вслед за Селезневым «Комсомольской правдой» больше двадцати лет ведет и «Российскую газету».
В силу этой простоты и мягкости натуры Геннадий Николаевич мог произвести впечатление не такого сильного, как какой-нибудь «железный» начальник. И зря. Потому что Селезнев обладал принципами и в самых компромиссных ситуациях за них не отступал. Не забыта, скажем, история его выхода из КПРФ, когда он отказался поддержать свою фракцию в думском голосовании. А «Комсомолка» именно этой крепости его характера обязана одним из своих великих подвигов.
В силу этой простоты и мягкости натуры Геннадий Николаевич мог произвести впечатление не такого сильного, как какой-нибудь «железный» начальник. И зря. Потому что Селезнев обладал принципами и в самых компромиссных ситуациях за них не отступал. Не забыта, скажем, история его выхода из КПРФ, когда он отказался поддержать свою фракцию в думском голосовании. А «Комсомолка» именно этой крепости его характера обязана одним из своих великих подвигов.
В начале 80-х страна воевала в Афгане, где наши воины выполняли, как тогда говорили, « интернациональный долг». Война та была практически засекречена, репортажи оттуда шли «по касательной», без подробностей, слово «бой» вообще вымарывалось из текста цензурой, заменялось «засадой». Обозреватель КП Инна Руденко привезла из командировки очерк «Вторая пуля». Речь шла об инвалиде-«афганце», который не смог добиться (а вслед за ним и приехавший на помощь корреспондент) от местного начальства устройства элементарного съезда для коляски с крыльца дома. Очеркистка сравнила такое равнодушие властной системы к человеку, отдавшему стране «интернациональный долг», со вторым выстрелом в спину. Очерк был виртуозно-доказательно выстроен. В нем не было прямой крамолы. Но неистребимая правда резала власть по-живому.
Публикуя очерк 15 февраля 1984 года, Селезнев сменил заголовок с метафорического на как бы безликий «Долг». Инна Павловна сопротивлялась, ей такой заголовок казался беззубым. Потом она напишет, что постепенно, остывши и подумав, поняла, что вынесенное в заголовок это простое слово, заставляющее сопоставить Долг и как обязанность государства перед воинами, само обернулось пулей. Из частной истории очерк превратился в манифест. Так его и восприняли читатели. Тем более, что «Долг» снял завесу секретности с афганской войны.
Публикуя очерк 15 февраля 1984 года, Селезнев сменил заголовок с метафорического на как бы безликий «Долг». Инна Павловна сопротивлялась, ей такой заголовок казался беззубым. Потом она напишет, что постепенно, остывши и подумав, поняла, что вынесенное в заголовок это простое слово, заставляющее сопоставить Долг и как обязанность государства перед воинами, само обернулось пулей. Из частной истории очерк превратился в манифест. Так его и восприняли читатели. Тем более, что «Долг» снял завесу секретности с афганской войны.

Страница газеты «6 этаж» Клуба журналистов всех поколений КП с рассказом о легендарной публикации «Комсомольской правды» - очерке Инны Руденко «Долг», где впервые был опубликован комментарий главреда Геннадия Селезнёва с признанием, что ему пришлось осуществить публикацию вопреки запрету цензора.
И только 26 лет спустя, в мае 2010 года, готовя рассказ об этой истории для газеты «6 этаж» ветеранского Клуба журналистов КП, мы узнали еще одну подробность, о которой вспомнил Селезнев, не придававший ей значения все эти годы. Вот что он тогда написал:
«Очерк Инны Руденко «Долг» можно с полным основанием назвать символом журналистики 80-х. История его публикации позволяет газете гордиться тем, что и в самые «застойные» времена она прорывала паутину державной лжи, партийного лицемерия, чиновничьего наплевательства, общественного равнодушия, вступалась за тех беззащитных и бесправных молодых ребят, которые послужили пушечным мясом в угоду политическим амбициям властной верхушки страны. Инна писала, как-будто шла по минному полю: выверяя каждое слово. Вроде бы мы подстелили соломки везде, чтобы не споткнуться. И все же споткнулись о запрет цензора, который не подписал газетную страницу с очерком в «свет». Формально тема покалеченных «афганцев» вообще была под запретом. А уж в таком обличительном ракурсе — тем более. Пришлось выпустить номер без разрешения цензора. Была такая возможность, под личную ответственность главного редактора. Тогда это был поступок с предсказуемо наказуемыми последствиями. Но позицию газеты потом поддержали прогрессивные силы в ЦК партии. «Долг» перевесил. И остался в истории не только вехой газеты, но событием для страны».
«Очерк Инны Руденко «Долг» можно с полным основанием назвать символом журналистики 80-х. История его публикации позволяет газете гордиться тем, что и в самые «застойные» времена она прорывала паутину державной лжи, партийного лицемерия, чиновничьего наплевательства, общественного равнодушия, вступалась за тех беззащитных и бесправных молодых ребят, которые послужили пушечным мясом в угоду политическим амбициям властной верхушки страны. Инна писала, как-будто шла по минному полю: выверяя каждое слово. Вроде бы мы подстелили соломки везде, чтобы не споткнуться. И все же споткнулись о запрет цензора, который не подписал газетную страницу с очерком в «свет». Формально тема покалеченных «афганцев» вообще была под запретом. А уж в таком обличительном ракурсе — тем более. Пришлось выпустить номер без разрешения цензора. Была такая возможность, под личную ответственность главного редактора. Тогда это был поступок с предсказуемо наказуемыми последствиями. Но позицию газеты потом поддержали прогрессивные силы в ЦК партии. «Долг» перевесил. И остался в истории не только вехой газеты, но событием для страны».
Лично меня больше всего поразило вот это нечаянное его признание, что «Долг» был опубликован без печати цензора. Селезнев даже не придал особенного значения этому своему поступку. Он просто воспользовался своим правом главного редактора пойти на таран с властью. Это не было эпатажем. Это было позицией. Чувством долга за профессию и за газету. И просто честным словом правдивого человека.
6 ноября 2022 года Геннадию Николаевичу исполнилось бы 75 лет. Только что ему открыт памятник на его малой родине, в уральском городе Серове. В начале 80-х, став главредом, Селезнев спас прах другого нашего главреда Тараса Кострова (Александра Мартыновского), стоявшего у руля начинающей свою жизнь «Комсомолки» (с сентября 1925-го - по декабрь 1928-го). Костров умер в 1930 году в санатории в Гаграх от туберкулеза, там и был похоронен. А в 80-х могила попала в зону строительства автотрассы. Наш фотокор Юрий Снегирев узнал и сообщил Селезневу. Геннадий Николаевич сам полетел в Гагры, помог обустроить новый некрополь в городском саду, с памятным обелиском, с пионерским почетным караулом в день памяти Кострова. Он сам перенес урну с прахом на новое место. А теперь появилось на земле и его личное место для вечной памяти. Его обустроили учрежденная им партия «Возрождение России» и наша «Комсомольская правда», от имени которой внес взнос на памятник буквально накануне своей кончины главред Владимир Николаевич Сунгоркин.
Эстафета памяти продолжается. Сунгоркин договорился в Санкт-Петербурге, где рос, учился и начинал в журналистике Селезнев, проводить «Селезневские чтения». И вот ректор СЗИУ РАНХ и ГС А.Д. Хлутков приглашает в середине ноября в Таврический дворец принять участие в Международной научно-практической конференции с этим названием. А «Комсомолка» вновь, как и в прошлом году, выделяет лучшим студентам-журналистам этого вуза учрежденные редакцией именные Селезневские стипендии с приглашением на практику к себе.
«Комсомольской правдой» к юбилею подготовлена электронная версия биографической книги о Геннадии Селезневе, написанная нашей коллегой Татьяной Корсаковой.
Госдума России планирует отметить этот юбилей в своих стенах. Там организована большая фотовыставка о жизни и деятельности второго по счету, но первого по вкладу в историю Председателя ГД РФ.
В последний раз мы все виделись с ним в мае 2015 года, на 90-летии «Комсомольской правды». Селезнев приехал на юбилей из больницы, хотя мы этого не знали. В июле его не стало. На память остался этот снимок с ветеранами газеты, где рядом с Селезневым и Владимир Николаевич Сунгоркин, главред «Комсомолки» в 1997-2022 годах.
Светлая память обоим!
«Комсомольской правдой» к юбилею подготовлена электронная версия биографической книги о Геннадии Селезневе, написанная нашей коллегой Татьяной Корсаковой.
Госдума России планирует отметить этот юбилей в своих стенах. Там организована большая фотовыставка о жизни и деятельности второго по счету, но первого по вкладу в историю Председателя ГД РФ.
В последний раз мы все виделись с ним в мае 2015 года, на 90-летии «Комсомольской правды». Селезнев приехал на юбилей из больницы, хотя мы этого не знали. В июле его не стало. На память остался этот снимок с ветеранами газеты, где рядом с Селезневым и Владимир Николаевич Сунгоркин, главред «Комсомолки» в 1997-2022 годах.
Светлая память обоим!
О легендах «Комсомольской правды»
О «ГВОЗДЯХ» И «БОМБАХ»
У каждого времени — свои памятные статьи, которые стали символом эпохи. Можно вспомнить целинную эпопею и опубликованную в главной молодежной газете песню «Едем мы, друзья» в 50-е, знаменитые дискуссии «Комсомолки» о физиках и лириках и о наличии жизни на Марсе в 60-е, педагогов-новаторов и БАМ — в 70-е, афганские репортажи и таежный тупик семейства Лыковых — 80-е…
Если пройтись по годам конкретно, обязательно найдешь 5−6 таких резонансных публикаций, которые становились насоящими «бомбами» или, как мы говорили тогда, «гвоздями», взрывали общественное мнение, вынуждали власти менять ситуацию или, наоборот, награждать новых национальных героев соответственно их высоким заслугам.
Если пройтись по годам конкретно, обязательно найдешь 5−6 таких резонансных публикаций, которые становились насоящими «бомбами» или, как мы говорили тогда, «гвоздями», взрывали общественное мнение, вынуждали власти менять ситуацию или, наоборот, награждать новых национальных героев соответственно их высоким заслугам.



«Комсомольская правда», благодаря профессиональному подвигу репортера Тамары Кутузовой (псевдоним Ольга Апенченко) и фотокора Василия Пескова, стала единственной газетой мира, которая первой рассказала о полете Юрия Гагирина и о нем самом уже к вечеру 12 апреля 1961 года.
Гагаринский номер
13 апреля 1961 года единственная газета мира вышла с рассказом о первом космонавте Земли Юрии Гагарине. Так получилось, что за год до полета журналистке «Комсомолки» Тамаре Кутузовой (Апенченко) удалось устроиться лаборантом только что созданного первого отряда космонавтов. Она вела дневник отряда. Из редакции пришлось уволиться, чтобы не нарушать секретность. Но когда было принято решение о полете, Тамара примчалась к главреду Юрию Воронову и все ему рассказала, положив на стол для публикации свой дневник. Воронов тут же создал две бригады из репортера и фотокора (Тамара Кутузова-Василий Песков и Ярослав Голованов-Илья Гричер), одну направил в Звездный городок (там работала Кутузова и жил Гагарин), другую на Алтай, к родителям дублера Германа Титова. Едва прозвучало по радио сообшение ТАСС, Кутузова и Песков тут же оказались в семье Гагариных. Все остальные газеты и цензура только ждали инструкций, а «Комсомолка» уже публиковала и дневник, и ставшие классикой снимки Пескова, и репортажи с улиц страны от ее ликующих граждан. А Песков с редактором отдела информации Павлом Барашевым «напросились» у маршала авиации, с которым лично дружили, в полет на место посадки, провели ночь в одной гостинице с отдыхающим Гагариным, летели с ним обратно в Москву и уже вечером в спецвыпуске «Комсомолки» напечатали первое в мире интервью с первым космонавтом. А репортеры Анатолий Иващенко и Юрий Бережной разыскали на одном из столичных заводов двоюродную сестру Юрия, рассказавшую о детстве космонавта. Это был настоящий подвиг и подлинный исторический триумф газеты, который сделает этот номер бессмертным, как и сам полет Гагарина.


Газета Клуба журналистов КП «6 этаж» рассказала в апреле 2011 года о том, как «Комсомольская правда» освещала тему космоса, и о том, как выпустила первый в мире гагаринский номер с помощью «королевы сенсации» Тамары Кутузовой и будущего великого обозревателя, а в те дни фотокора Василия Пескова.
История с Соляником
21 июля1965 года «Комсомольская правда» опубликовала первую в советской прессе антикоррупционную статью Аркадия Сахнина «В рейсе и после» с разоблачением зарвавшегося и морально разложившегося самодура, генерального директора китобойной флотилии «Слава», Героя Социалистического труда Алексея Соляника, одного из самых могущпественных хозяйственников своего времени. Публкацию обсуждали на Президиуме Ц К КППСС во глве с Леоидом Брежневым. Соляник потерял свой пост, что было немыслимой победой газеты; но и свой потерял главред «Комсомолки» Юрий Воронов. Фактом публикации была пробита тогда решь и цензуры, и партийной дисциплины.



«В рейсе и после» — первая антикоррупционная публикация «Комсомольской правды» о генеральном директоре китобойной флотилии «Слава» обсуждалась после выхода на Президиумей Ц К КПСС и стоила должности как могущественному хозяйственнику того времени Алексею Солянику, так и главному редактору газеты, известному своей отвагой и блокадными стихами Юрию Воронову.
Перечитывая сегодня статью, удивляешься ее беспрецелентной откровенности, «мясистости» живописания той страшной каторги, в которую превратилась при Солянике работа китобоев. Статья была, конечно, по-своему тенденциозна, но отказать ей в беспощадной правдивоййсти невозможно.
Черная метка главреду
Что стоит за легендарной смелостью «Комсомолки»? Откровенное признание главного редактора КП 60-70-х годов Бориса Панкина.
Довольно долго пришлось в переписке с Борисом Дмитриевичем Панкиным, нашим главредом с 1965 по 1973 годы, доказывать, что для истории газеты важны и подробности редакционной жизни, характеристики ее людей, перепитии скандальных ситуаций. БД (так мы звали его между собой) дипломатично отнекивался. Говорил, что все, что считал нужным, рассказал в своих мемуарных книгах: «Пресловутая эпоха», «Та самая эпоха», «Пылинки времени» и в ндавней «По обе стороны медали». Но я настаивала. Почему? Потому что по собственному опыту знала, как ошеломительно порой выглядит истинная закулисная картина вокруг тех публикаций газеты, которые создавали ей славу смелой, принципиальной, неподкупной. В истории газеты есть несколько таких культовых статей, которые буквально потрясали общество. Например, в 1959 году очерк Кима Костенко «Это было в Краснодоне», благодаря которому пересмотрена история подпольной «Молодой гвардии». Журналист- фронтовик восстал тогда против лакировочной мифологии войны, искажения правды о ней. Или в 1965 году статья Аркадия Сахнина «До рейса и после», свалившая могущественного хозяйственника Соляника, руководителя китобойной флотилии «Слава», за публикацию которой был отправлен в пятнадцатилетнюю ссылку собкором в Берлин главред «Комсомолки» Юрий Воронов.
Довольно долго пришлось в переписке с Борисом Дмитриевичем Панкиным, нашим главредом с 1965 по 1973 годы, доказывать, что для истории газеты важны и подробности редакционной жизни, характеристики ее людей, перепитии скандальных ситуаций. БД (так мы звали его между собой) дипломатично отнекивался. Говорил, что все, что считал нужным, рассказал в своих мемуарных книгах: «Пресловутая эпоха», «Та самая эпоха», «Пылинки времени» и в ндавней «По обе стороны медали». Но я настаивала. Почему? Потому что по собственному опыту знала, как ошеломительно порой выглядит истинная закулисная картина вокруг тех публикаций газеты, которые создавали ей славу смелой, принципиальной, неподкупной. В истории газеты есть несколько таких культовых статей, которые буквально потрясали общество. Например, в 1959 году очерк Кима Костенко «Это было в Краснодоне», благодаря которому пересмотрена история подпольной «Молодой гвардии». Журналист- фронтовик восстал тогда против лакировочной мифологии войны, искажения правды о ней. Или в 1965 году статья Аркадия Сахнина «До рейса и после», свалившая могущественного хозяйственника Соляника, руководителя китобойной флотилии «Слава», за публикацию которой был отправлен в пятнадцатилетнюю ссылку собкором в Берлин главред «Комсомолки» Юрий Воронов.


Молодогвадейские публикации
А вот подробности появления еще одной такой публикации - летом 1967 года рецензии «На пути к премьере» двух журналистов-правдистов Лена Карпинского и Федора Бурлацкого – оставались малоизвестными. В 60-70 годы театральные постановки и газетные отзывы о них нередко становились протестной площадкой, куда закладывались «крамольные» мысли. Вот и в этой рецензии авторы между строк высказывались против жесткой идеологической цензуры в искусстве. В родной газете их отказались публиковать. Это был приговор. Мы, журналисты, помним про особый статус главного партийного печатного органа: в нем априори не могло быть ошибок, любая публикация означала неукоснительную норму советской жизни. Если там отказались печатать статью двух своих ведущих сотрудников (Карпинский - член редколлегии, Бурлацкий - политический обозреватель), значит статья безусловно была ошибочной. Авторы пошли в «Литературную газету» имевшую тогда репутацию самой оппозиционной. Главный редактор Александр Чаковский, крупный игрок на поле политического маневрирования, не скрывал: после правдинского приговора смотреть статью не будет. Авторы пошли в «Комсомольскую правду».
Чем была в том идеологическом раскладе центральная молодежная газета, главный печатный орган ВЛКСМ, подручного партии? Тогда она была и подручным, конечно; но и «терапевтом добра», как остроумно назвал ее как-то наш главред БД. В общем ряду партийной прессы (другой тогда не было) «Комсомолка» сумела стать самой неформальной, человечной, теплой, защитницей конкретных людей и их достоинства. Такой взгляд и подход партии тоже был нужен, позволял держать в зоне влияния многомиллионную аудиторию, и не только молодежную. Так что комсомольской газете прощалась ее "юношеская задиристостьОсобенно, если главный редактор был готов к самостоятельным маневрам.
Наш БД, выросший в газете от стажера в 1953 году до первого зама главреда в 1960 и главреда с 1965 до 1973 года, был дипломатом от природы, недаром стал потом послом и даже министром иностранных дел. Газетный опыт сделал его закаленным бойцом. В комсомоле занимал высокое место: входил в Бюро ЦК ВЛКСМ. Умел находить язык с отделами ЦК КПСС. Корочеобладал авторитетом, не уступающим редакторам партийных газет.
"Комсомолка" тогда не раз похожую «крамолу» публиковала. Недавно тогдашний редактор отдела литературы и искусства Константин Щербаков выпустил книгу этих статей «Время мое и чужое», вся театральная история шестидесятничества с участием «Комсомолки» там хорошо видна. Поэтому и Панкина не смутили отказы «взрослых» газет, он захотел поддержать тему послаблений надзора за театром. Хотя и понимал, разумеется, что ступает на минное поле.
Сегодня у нас есть его рассказ об этой истории. Письмо его очень откровенно и, признаться, потрясает той степенью ответственности, через которую приходится проходить главному редактору. Мы, читатели, видим верхушку айсберга в виде блестящей публикации. А тут сразу становится видимым и все подводное закулисье происходящего. Такиеэксклюзивные свидетельства очевидцев и действующих лиц на вес золота. С разрешения автора мы публикуем этот рассказ в преддверии 90-летия «Комсомольской правды».
Чем была в том идеологическом раскладе центральная молодежная газета, главный печатный орган ВЛКСМ, подручного партии? Тогда она была и подручным, конечно; но и «терапевтом добра», как остроумно назвал ее как-то наш главред БД. В общем ряду партийной прессы (другой тогда не было) «Комсомолка» сумела стать самой неформальной, человечной, теплой, защитницей конкретных людей и их достоинства. Такой взгляд и подход партии тоже был нужен, позволял держать в зоне влияния многомиллионную аудиторию, и не только молодежную. Так что комсомольской газете прощалась ее "юношеская задиристостьОсобенно, если главный редактор был готов к самостоятельным маневрам.
Наш БД, выросший в газете от стажера в 1953 году до первого зама главреда в 1960 и главреда с 1965 до 1973 года, был дипломатом от природы, недаром стал потом послом и даже министром иностранных дел. Газетный опыт сделал его закаленным бойцом. В комсомоле занимал высокое место: входил в Бюро ЦК ВЛКСМ. Умел находить язык с отделами ЦК КПСС. Корочеобладал авторитетом, не уступающим редакторам партийных газет.
"Комсомолка" тогда не раз похожую «крамолу» публиковала. Недавно тогдашний редактор отдела литературы и искусства Константин Щербаков выпустил книгу этих статей «Время мое и чужое», вся театральная история шестидесятничества с участием «Комсомолки» там хорошо видна. Поэтому и Панкина не смутили отказы «взрослых» газет, он захотел поддержать тему послаблений надзора за театром. Хотя и понимал, разумеется, что ступает на минное поле.
Сегодня у нас есть его рассказ об этой истории. Письмо его очень откровенно и, признаться, потрясает той степенью ответственности, через которую приходится проходить главному редактору. Мы, читатели, видим верхушку айсберга в виде блестящей публикации. А тут сразу становится видимым и все подводное закулисье происходящего. Такиеэксклюзивные свидетельства очевидцев и действующих лиц на вес золота. С разрешения автора мы публикуем этот рассказ в преддверии 90-летия «Комсомольской правды».
Письмо Б.Д. Панкина от 18.11.2014 года
Статью эту Лен Карпинский принес прямо мне, тогдашнему Главному "Комсомолки". Во-первых, потому, что понимал, что по такому поводу разговаривать есть смысл только с первым лицом ( статья, как он поведал мне, была уже отвергнута Зимяниным в "Правде" и Чаковским в "Литературке"), а во-вторых потому, что у нас были с ним дружеско деловые отношения еще с тех времен, когда он был секретарем ЦК ВЛКСМ по пропаганде и порой вынужден был пробирать по служебной необходимости "Комсомолку" за ее еретические публикации, особенно, в сфере литературы и искусства. Тема меня захватила, хотя текст смахивал на справку, что не удивительно, потому что до того соавторы по своим должностям в одном ЦК и в другом (Бурлацкий перешел в "Правду" о Старой площади) больше писали справки или работали над тем, что им представляли сотрудники.
Мы провели с Леном несколько сеансов редактуры, в ходе которых я познакомил со статьей Костю Щербакова, и он, и как редактор отдела и литературовед, что называется, руками и ногами голосовал за ее публикацию и дежурил по номеру в тот день, когда она шла. Так же, как я специально вел этот номер до выпуска как Главный, хотя на следующий день улетал в Канаду.
Накануне прошло заседание редколлегии, на которой против публикации выступили заместитель главреда Чикин и Сергей Высоцкий. Ответсек Оганов как всегда в подобных случаях мямлил. Большинство однако было "за", да и у меня было право единоличного решения.
Уполномоченного Главлита, который колебался поставить подпись, я демагогически спросил: есть тут какие- нибудь секреты, которые Главлиту поручено охранять? Нет? Так ставьте подпись,что он, помявшись, и сделал.
В самолете, когда мы вместе летели на Экспо 67, я дал свежий номер в руки Рахману Везирову, тогда тоже одному из секретарей ЦК, по рабочей тематике, и он, прочитав статью, смотрел на меня весь полет и всю командировку как на самоубийцу. А по возвращении дежурно обличал меня на заседании бюро ЦК ВЛКСМ.
В ЦК партии считали, что наказать нас надо, но, боясь шумихи в мировой прессе, остановили свой выбор на редакторе отдела. А мне как Главному по указанию большого ЦК малый ЦК объявил по-тихому, но после громкого обсуждения на Бюро, коего и я тогда был членом, строгий выговор с занесением в личное дело. В данном случае от увольнения спасло и то, что и.о. отдела пропаганды ЦК КПСС тогда был известный А.Н. Яковлев. Строгач в те времена был как черная метка. Уже вторая у меня, потому что первую, непосредственно от Большого ЦК, я заработал еще зам. главного по совокупности за публикацию стиха Вознесенского "Генеральша", статей Кима Костенко "Быть ли городу Братску" , Сахнина о русской девушке, вышедшей замуж за араба и Саши Егорова о семействе Глинок.
Но это еще не все. С помощью А.Н. Яковлева я пробил для КП ставку обозревателя по вопросам культуры, приравненную к ставке зав. отделом, на которую и был зачислен опальный Щербаков. Так что ни дня без работы он не был. Зато получил возможность целиком отдаться творчеству, что косвенно принесло свои плоды и нынешней его книжкой.
Но и это еще не все. На место Кости как члена редколлегии мне направили из Ленинграда Олега Иванова, который быстро свел дружбу в редакции с Чикиным и Огановым. А примерно через год мне позвонила по "вертушке" Зоя Петровна Туманова, тогда первый зам. Заведующего отделом культуры ЦК КППС, ястреб в юбке, и попросила елейным, не свойственным ей голосом "отдать" ей Олега Иванова для назначения зав.сектором изобразительного искусства. Я же изобразил, как трудно мне с ним расставаться и свое эвентуальное согласие оговорил условием, что З.П. поможет мне восстановить Щербакова на место Олега, то есть на бывшее Кости же место члена редколлегии. И она, как человек с юмором,отдав, видимо, должное моей наглости, сказала, что попробует и попробовала. Через пару недель Иванов ушел в большой ЦК, а Щербаков вернулся на место зав отделом и члена редколлегии. И проработал в этом качестве до моего ухода. А когда я ушел создавать ВААП, ушли и его… И тогда я, на этот раз с помошью Смирнова, сменившего отправленного послом в Канаду Яковлева, пробил его представителем ВААП в Польше. И это был для него совершенно новый этап, начала второй жизни.
Давно собирался изложить эту историю тезисно хотя бы и для себя, но наверное, если бы Вы не "подвернулись, так бы и не собрался.
Ваш БД.
Мы провели с Леном несколько сеансов редактуры, в ходе которых я познакомил со статьей Костю Щербакова, и он, и как редактор отдела и литературовед, что называется, руками и ногами голосовал за ее публикацию и дежурил по номеру в тот день, когда она шла. Так же, как я специально вел этот номер до выпуска как Главный, хотя на следующий день улетал в Канаду.
Накануне прошло заседание редколлегии, на которой против публикации выступили заместитель главреда Чикин и Сергей Высоцкий. Ответсек Оганов как всегда в подобных случаях мямлил. Большинство однако было "за", да и у меня было право единоличного решения.
Уполномоченного Главлита, который колебался поставить подпись, я демагогически спросил: есть тут какие- нибудь секреты, которые Главлиту поручено охранять? Нет? Так ставьте подпись,что он, помявшись, и сделал.
В самолете, когда мы вместе летели на Экспо 67, я дал свежий номер в руки Рахману Везирову, тогда тоже одному из секретарей ЦК, по рабочей тематике, и он, прочитав статью, смотрел на меня весь полет и всю командировку как на самоубийцу. А по возвращении дежурно обличал меня на заседании бюро ЦК ВЛКСМ.
В ЦК партии считали, что наказать нас надо, но, боясь шумихи в мировой прессе, остановили свой выбор на редакторе отдела. А мне как Главному по указанию большого ЦК малый ЦК объявил по-тихому, но после громкого обсуждения на Бюро, коего и я тогда был членом, строгий выговор с занесением в личное дело. В данном случае от увольнения спасло и то, что и.о. отдела пропаганды ЦК КПСС тогда был известный А.Н. Яковлев. Строгач в те времена был как черная метка. Уже вторая у меня, потому что первую, непосредственно от Большого ЦК, я заработал еще зам. главного по совокупности за публикацию стиха Вознесенского "Генеральша", статей Кима Костенко "Быть ли городу Братску" , Сахнина о русской девушке, вышедшей замуж за араба и Саши Егорова о семействе Глинок.
Но это еще не все. С помощью А.Н. Яковлева я пробил для КП ставку обозревателя по вопросам культуры, приравненную к ставке зав. отделом, на которую и был зачислен опальный Щербаков. Так что ни дня без работы он не был. Зато получил возможность целиком отдаться творчеству, что косвенно принесло свои плоды и нынешней его книжкой.
Но и это еще не все. На место Кости как члена редколлегии мне направили из Ленинграда Олега Иванова, который быстро свел дружбу в редакции с Чикиным и Огановым. А примерно через год мне позвонила по "вертушке" Зоя Петровна Туманова, тогда первый зам. Заведующего отделом культуры ЦК КППС, ястреб в юбке, и попросила елейным, не свойственным ей голосом "отдать" ей Олега Иванова для назначения зав.сектором изобразительного искусства. Я же изобразил, как трудно мне с ним расставаться и свое эвентуальное согласие оговорил условием, что З.П. поможет мне восстановить Щербакова на место Олега, то есть на бывшее Кости же место члена редколлегии. И она, как человек с юмором,отдав, видимо, должное моей наглости, сказала, что попробует и попробовала. Через пару недель Иванов ушел в большой ЦК, а Щербаков вернулся на место зав отделом и члена редколлегии. И проработал в этом качестве до моего ухода. А когда я ушел создавать ВААП, ушли и его… И тогда я, на этот раз с помошью Смирнова, сменившего отправленного послом в Канаду Яковлева, пробил его представителем ВААП в Польше. И это был для него совершенно новый этап, начала второй жизни.
Давно собирался изложить эту историю тезисно хотя бы и для себя, но наверное, если бы Вы не "подвернулись, так бы и не собрался.
Ваш БД.
Подвиг стюардессы
В середине октября 1970 года в «Комсомольской правде» стали появляться репортажи Геннадия Бочарова о подвиге 19-летней стюардессы Надежды Курченко, погибшей от рук угонщиков самолета. Это были первые в отечественной журналистике публикации о террористическом акте. Никто не давал разрешения на эти публикации, цензура не имела никаких распоряжений на запрет подобной информации. Журналист «Комсомолки» оказался единственным на месте происшествия. И скажем честно: если бы не его фантастический стилистический талант, выдвинувший Г. Бочарова не то что в «золотые» — в «бриллиантовые» перья советской прессы, этот самоотверженный, но должностной поступок Надежды не приобрел бы величие подвига. Отклики восхищенных героизмом читателей шли в газету миллионами. К тому же Надя была такой красивой! Газета не пожалела места на ее портрет, что тоже было редкостью в те времена.



Первая антитеррористическая публикация «Комсомольской правды» — рассказ о подвиге стюардессы Надежды Курченко, расстрелянной угонщиками самолета в Турцию. Очеркист Геннадий Бочаров сумел так рассказать о служебном долге стюардессы, что девушка стала национальной героиней, ее имя звучит в ряду выдающихся поступков до сих пор.
Начало байкальской эпопеи
11 августа 1970 года «Комсомольская правда» опубликовала статью Анатолия Юркова «У Байкала». Со скучным как бы подзаголовком «Проверяем выполнение постановления Совета Министров СССР „О мерах по сохранению и рациональному использованию природных комплексов бассейна озера Байкал“ от 21 января 1969 года».Это был мощный удар в защиту уникального озера, показавший реальную опасность его загрязнения стоками Байкальского целлюлозо-бумажного комбината. Публикации уже предшествовал скандал: «Комсомолка» схлестнулась с академиком Жаворонковым, который с высоких трибун вещал об экологической безопасности проекта. Секретарь Ц К КПСС Петр Демичев лично обвинил молодежную газету и ее главреда Бориса Панкина едва ли не во вредительстве. Однако вышеназванное постановление о рациональном пользовании ресурсами озера все же вослед скандалу появилось. А Юрков, проверяя его выполнение, сумел найти и такие документы, которые подтвердили показуху всего этого «рационального пользования». Совмин выделил тогда средства на очистные сооружения. А байкальская тема стала ключевой в газете на многие годы.


«У Байкала» — эта публикация журналиста «Комсомольской правды» Анатолия Юркова о том, как выполняется Постановление Совмина по защите уникального озера, развеяла все иллюзии и вынудила правительство внести существенные коррективы в намеченные губительные проекты.
Откровенно о закулисье торжеств
В начале 70-х общественность взорвала первая в совпетской прессе публикация об оргиях и разврате среди комсомольских вожаков, районного, правда, масштаба — статья Валерия Аграновского «Вольские аномалии». Заголовок принадлежал «осторожному», как писал в своих воспоминаниях автор, главреду — Льву Корнешову, таким образом подчеркнувшему частный, единичный, противоестественный характер описанного. Но все прекрасно понимали, что речь — о явлении, причем — именно типичном, ставшем нормой. И не только в комсомольской среде. Потому-то и стала публикация в «Комсомольской правде» настоящей бомбой, в прямом смысле слова. Автор тогда усидел, главред не только усидел, но свои позиции как реальный политик только укрепил: факты были неопровержимы. Номер газеты, несмотря на ее миллионные тиражи, в одно мгновение стал раритетом: читатели передавали его из рук в руки как какую-нибудь самиздатовскую нелегальщину. А название стало своего рода псевдонимом коллективных партийных пьянок, обычных и до сих пор. Только теперь они называются корпоративами.
И т.д., и т. п.
Стать автором резонансной публикации — войти в плеяду лучших журналистов страны. «Комсомолка» давала шанс каждому на этаже, и нередко звездный час здесь наступал даже для тех, кому едва минуло двадцать. «Спросите Зою» — эта первая в советской журналистике именная персональная рубрика появилась в 1963 году, придуманная для стажера Зои Васильцовой, которая впоследствии более трех десятилетий была главредом самого массового журнала «Работница». Алику Шумскому было позволено писать текстовки к снимкам в стихах, такого тоже не водилось в советской прессе. Всемирная слава обрушилась на Юрия Роста, когда он 19 сентября 1976 года написал про собаку, встречающую у трапа каждого прибывшего рейса исчезнувшего хозяина. Репортажи Александра Пумпянского из США стоили ему карьеры, но навсегда изменили наши тогдашние представления об американцах. Яркий репортер Татьяна Агафонова, искавшая в Гималаях «снежного человека», вошла в большую историю как личный друг Галины Улановой, интервью с которой вернуло великую балерину из ее затворничества на сцену общественного интереса.
И т.д., и т. п.
Стать автором резонансной публикации — войти в плеяду лучших журналистов страны. «Комсомолка» давала шанс каждому на этаже, и нередко звездный час здесь наступал даже для тех, кому едва минуло двадцать. «Спросите Зою» — эта первая в советской журналистике именная персональная рубрика появилась в 1963 году, придуманная для стажера Зои Васильцовой, которая впоследствии более трех десятилетий была главредом самого массового журнала «Работница». Алику Шумскому было позволено писать текстовки к снимкам в стихах, такого тоже не водилось в советской прессе. Всемирная слава обрушилась на Юрия Роста, когда он 19 сентября 1976 года написал про собаку, встречающую у трапа каждого прибывшего рейса исчезнувшего хозяина. Репортажи Александра Пумпянского из США стоили ему карьеры, но навсегда изменили наши тогдашние представления об американцах. Яркий репортер Татьяна Агафонова, искавшая в Гималаях «снежного человека», вошла в большую историю как личный друг Галины Улановой, интервью с которой вернуло великую балерину из ее затворничества на сцену общественного интереса.

Легендой «Комсомольской правды» репортер Татьяна Агафонова стала еще во время гималайской экспедиции по поиску «снежного человека». Ее перо умело открыть свой ракурс в любой ситуации. Здесь публикация о подвиге стюардессы Надежды Курченко и о материнской скорби-гордости.
На этаже вырастали быстро и мощно. И оставались в истории журналистики. И, конечно, в истории самой газеты.
О легендах «Комсомольской правды»
ЛЕГЕНД НЕ ВЫБИРАЮТ, ИМИ СТАНОВЯТСЯ

Накануне наступившего 2018 года главный редактор газеты Владимир Сунгоркин принял решение об учреждении почетного звания «Легенда «Комсомольской правды». Встал вопрос, кому его вручить? Ушли великие журналисты Ярослав Голованов, Василий Песков, Инна Руденко, работавшие в «Комсомолке» всю жизнь и, несомненно, оставшиеся навсегда ее легендами. Отметили в прошлом году 70-летие тоже уже покойного главреда и выдающегося общественного деятеля, председателя Госдумы Геннадия Селезнева. А сколько еще живущих и деятельных, кто, безусловно, остается легендарной личностью газеты! Было решено доверить выбор ветеранам, журналистам всех поколений «Комсомолки» Каждый декабрь вот уже двенадцать лет они проводят в Домжуре вечер чествования юбиляров года. И сразу стало ясно, что не менее трех нынешних юбиляров давно легендами уже являются. Выбрать из них невозможно: каждый вошел в историю по-своему, но непобедимо. Поэтому вручили диплом о звании, серебряный значок и благодарственные письма всем трем. Кто же они, первые лауреаты звания «Легенда «Комсомольской правды»? Рассказом о них начинаем публикацию исторических материалов в эту рубрику «Навстречу 95-летию «Комсомольской правды» и, надеемся, ее поддержат и читатели, слушатели, зрители нестареющей «Комсомолки».

О легендах «Комсомольской правды»
КАК ПАНКИН СПАСАЛ ОКУДЖАВУ

Сначала его уволили по сокращению штата. Тогдашний главред Дмитрий Горюнов не счел за обузу лично встретиться со стажером отдела комсомольской жизни и пояснить, что не может сократить кого-то из коренных кадров, опытных, давно работающих, семейных. Пригласил продолжить сотрудничество до поры до времени вне штата. Но тут за стажера вступилась редакционная гвардия: бывшие фронтовики, занявшие в пятидесятые годы ключевые позиции в газете: Илья Шатуновский, Владимир Чачин, Юрий Фалатов. Им стажер успел приглянуться. Вчерашний выпускник журфака МГУ Борис Панкин, в 1953-м подтянувшийся в «Комсомолку» вслед за сокурсником Алексеем Аджубеем, тоже прорвавшимся в стажеры, побыв уволенным пару суток, вернулся в газету. Как позже выяснилось, на двадцать лет.
Потом была та самая резонансная публикация, после которой журналист просыпается знаменитым. В отдел пришло письмо из Калуги. Авторы, местные комсомольцы, жаловались, что начались гонения на их молодежный клуб «Факел» при областной газете «Молодой ленинец». Клуб обвинили в крамоле, мол, ведут идеологически неправильные разговоры, песни странные поют под гитару, стихи сомнительные читают. Короче, «шьют» антисоветчину. Редакция отправила в командировку своего корреспондента. Тот быстро разобрался, что гонения идут от перестраховщиков, которых оживленная деятельность не по инструкции просто пугает, что им, не переварившим еще новизну недавно прошедшего ХХ антисталинского съезда партии, не по себе, что молодежь «слишком много позволяет». Панкин привез из командировки статью в защиту клуба и его участников, особенно молодого журналиста Булата Окуджавы, который «Факел» и создал. Горюнов вызвал к себе корреспондента, показал свою правку и спросил, почему не назван по имени виновник травли? Борис пояснил, что речь о первом секретаре горкома партии. Формально «Комсомолка» не имела субординационного права критиковать партийных руководителей. Горюнов нахмурился: «Вы уверены в своей правоте? Тогда пишите фамилию гонителя». 9 декабря 1956 года «Комсомольская правда» вышла со статьей «Как погасили «Факел», где калужский партийный вождь поименно и нелицеприятно обвинялся в зажиме молодежной инициативы, в непонимании нового курса партии на освобождение от догм и методов сталинского культа. Сам факт подобной публикации был знаком начавшихся перемен, своего рода подтверждением, что пришли новые времена и новые нормы жизни. Знаком начинающейся оттепели.
Потом была та самая резонансная публикация, после которой журналист просыпается знаменитым. В отдел пришло письмо из Калуги. Авторы, местные комсомольцы, жаловались, что начались гонения на их молодежный клуб «Факел» при областной газете «Молодой ленинец». Клуб обвинили в крамоле, мол, ведут идеологически неправильные разговоры, песни странные поют под гитару, стихи сомнительные читают. Короче, «шьют» антисоветчину. Редакция отправила в командировку своего корреспондента. Тот быстро разобрался, что гонения идут от перестраховщиков, которых оживленная деятельность не по инструкции просто пугает, что им, не переварившим еще новизну недавно прошедшего ХХ антисталинского съезда партии, не по себе, что молодежь «слишком много позволяет». Панкин привез из командировки статью в защиту клуба и его участников, особенно молодого журналиста Булата Окуджавы, который «Факел» и создал. Горюнов вызвал к себе корреспондента, показал свою правку и спросил, почему не назван по имени виновник травли? Борис пояснил, что речь о первом секретаре горкома партии. Формально «Комсомолка» не имела субординационного права критиковать партийных руководителей. Горюнов нахмурился: «Вы уверены в своей правоте? Тогда пишите фамилию гонителя». 9 декабря 1956 года «Комсомольская правда» вышла со статьей «Как погасили «Факел», где калужский партийный вождь поименно и нелицеприятно обвинялся в зажиме молодежной инициативы, в непонимании нового курса партии на освобождение от догм и методов сталинского культа. Сам факт подобной публикации был знаком начавшихся перемен, своего рода подтверждением, что пришли новые времена и новые нормы жизни. Знаком начинающейся оттепели.

1956 год. На снимке журналистская бригада по освещению комсомольской конференции. Слева в первом ряду восходящая легенда Шестого этажа, автор самой резонансной публикации года, спецкор отдела комсомольской жизни Борис Панкин.
Фото из архива Клуба журналистов КП (личный архив
Людмилы Семиной и Бориса Панкина)
Фото из архива Клуба журналистов КП (личный архив
Людмилы Семиной и Бориса Панкина)
Борису Панкину не исполнилось еще и тридцати, когда он стал заместителем главного редактора, через три с небольшим года после той публикации. Пять лет в паре с Юрием Вороновым и затем восемь лет уже и сам главредом. Шестидесятые — звездное время для «Комсомолки». Годы, когда она позволяла себе публиковать острейшие дискуссии о путях общественного развития, спорить с авторитетами, называть вещи своими именами, создала Институт общественного мнения и проводила первые в стране социологические опросы, когда даже в отчетах с Пленумов Ц К комсомола, своего учредителя, могла высказать собственное критическое мнение, когда театральные рецензии становились знаменами свободомыслия, а очерки о педагогах-новаторах — знаменами реформаторства, когда подросткам она подарила отдельную трибуну «Алый парус», а молодым ученым «Клуб любознательных», когда академики, министры и великие поэты за честь почитали опубликовать на ее страницах хоть пару абзацев, экономисты всех мастей проводили эксперименты под ее патронажем, когда спасали Волгу, Арал, Байкал и малые реки… Борис Панкин, так вовремя хлебнувший эликсира смелости от старших коллег-фронтовиков, от главреда, показавшего ему силу правды, не уставал придумывать и поддерживать все эти выдающиеся для советской журналистики находки и начинания. Принял эстафету от своего «Факела» и понес дальше.

1960 год. На снимке с планерки справа заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Борис Панкин. Начиналась новая эпоха, которую назвали оттепелью и которую молодежная газета и ее журналисты формировали решительно, задорно, полемично и с неистощимой выдумкой.
Фото из архива Клуба журналистов КП (личный архив
Людмилы Семиной и Бориса Панкина)
Фото из архива Клуба журналистов КП (личный архив
Людмилы Семиной и Бориса Панкина)
Каждый номер газеты обязан был содержать в себе «гвоздь», который делал этот номер событием. Этому правилу главред Панкин следовал неукоснительно. Собственно, уже первый подписанный им в новом ранге номер содержал статью такой взрывоопасной силы, что вновь встал вопрос об увольнении. Собкор по Татарстану Жан Миндубаев написал о подчинении юридоческих органов партийной власти. «Трудно быть прокурором в Гукове», — так называлась скандальная публикация. Тогдашний руководитель отдела пропаганды ЦК КПСС и еще не демократ, А Н Яковлев заявил: «После
такой статьи мы бы, отдел, отозвали бы наше представление Вас на главреда, ессли бы накануне оно уже не было утверждено инстанцией». Так что увольнения в этот раз опять не получилось. Но ситуация стала повторяемой.
Много шуму наделала в 1970 году рецензия Михаила Синельникова с критикой неосталинистких романов Ивана Шевцова «Во имя отца и сына» и «Любовь и ненависть». От публикации статьи отказались «Правда» и «Литературная газета». Против «Комсомолки» выступила «Советская Россия». Раскол произошел и в отделе пропаганды ЦК КПСС, и среди помощников генсека Леоида Брежнева. Панкин, для которого тема борьбы со сталинизмом как идеологическим догматизмом стала ключевой, дошел до Брежнева. Тот словесно поддержал позицию Панкина, но полемику комсомольской газеты с партийной запретил продолжать.
такой статьи мы бы, отдел, отозвали бы наше представление Вас на главреда, ессли бы накануне оно уже не было утверждено инстанцией». Так что увольнения в этот раз опять не получилось. Но ситуация стала повторяемой.
Много шуму наделала в 1970 году рецензия Михаила Синельникова с критикой неосталинистких романов Ивана Шевцова «Во имя отца и сына» и «Любовь и ненависть». От публикации статьи отказались «Правда» и «Литературная газета». Против «Комсомолки» выступила «Советская Россия». Раскол произошел и в отделе пропаганды ЦК КПСС, и среди помощников генсека Леоида Брежнева. Панкин, для которого тема борьбы со сталинизмом как идеологическим догматизмом стала ключевой, дошел до Брежнева. Тот словесно поддержал позицию Панкина, но полемику комсомольской газеты с партийной запретил продолжать.

1961 год. Этот снимок Бориса Панкина и Юрия Гагарина стал
олицетворением эпохи: первый космонавт и легендарный журналист
любимой миллионами «Комсомольской правды».
Фото из архива Клуба журналистов КП (личный архив
Людмилы Семиной и Бориса Панкина)
олицетворением эпохи: первый космонавт и легендарный журналист
любимой миллионами «Комсомольской правды».
Фото из архива Клуба журналистов КП (личный архив
Людмилы Семиной и Бориса Панкина)
В борьбе за правду доходило порой до анекдотов. Рецензию самого Панкина, который был уже известным литературным критиком, о повести «Белый пароход» Чингиза Айтматова секртариат ЦК ВЛКСМ снимал из номера. Все же «Комсомольская правда» была органом ЦК и обязана была утверждать номер там. Чингиз пошел на прием к первому секретарю Евгению Тяжельникову и напугал в разговоре, процитировав строки корана, которые были вытканы на ковре в кабинете комсомольского вождя. Тот заволновался и снял запрет.
Две публикации той поры Панкин всегда вспоминает особо. Это статья 1967 года Федора Бурлацкого и Лена Карпинского «На пути к премьере», где газета выступила против вакханалии цензуры в культурной, особенно, театральной сфере. Статья вызвала настоящий переполох как в стране, так и за рубежом, по-разному, естественно, окрашенный. Но щедро спущенные свыше наказания по партийной линии воспринимались «виновниками» как награды. Авторов «списали» работать в научный институт и в опальный журнал. Газету вынудили публично извиниться за «недопонимание». Но тронуть ее руководителя уже не посмели. Времена в самом деле изменились. И правда, пусть с небольшими тактическими потерями, прозвучала на весь мир.
Спустя три года, в 1970 году, в КП появилась двухподвальная статья-«распашка» самого Бориса Панкина «Живут Пряслины» в защиту эпопеи писателя Федора Абрамова, а тем самым и журнала «Новый мир», гонения на который достигли кульминации. Его главред Александр Твардовский откликнулся на эту публикацию письмом автору, которое вошло в собрание сочинений великого поэта.
Две публикации той поры Панкин всегда вспоминает особо. Это статья 1967 года Федора Бурлацкого и Лена Карпинского «На пути к премьере», где газета выступила против вакханалии цензуры в культурной, особенно, театральной сфере. Статья вызвала настоящий переполох как в стране, так и за рубежом, по-разному, естественно, окрашенный. Но щедро спущенные свыше наказания по партийной линии воспринимались «виновниками» как награды. Авторов «списали» работать в научный институт и в опальный журнал. Газету вынудили публично извиниться за «недопонимание». Но тронуть ее руководителя уже не посмели. Времена в самом деле изменились. И правда, пусть с небольшими тактическими потерями, прозвучала на весь мир.
Спустя три года, в 1970 году, в КП появилась двухподвальная статья-«распашка» самого Бориса Панкина «Живут Пряслины» в защиту эпопеи писателя Федора Абрамова, а тем самым и журнала «Новый мир», гонения на который достигли кульминации. Его главред Александр Твардовский откликнулся на эту публикацию письмом автору, которое вошло в собрание сочинений великого поэта.

1970 год. Борис Панкин (справа), главный редактор «Комсомольской правды», известный литературный критик и исследователь творчества писателя Федора Абрамова в кабинете главного режиссера легендарного театра на Таганке Юрия Любимова (в центре).
Театр ставит спектакль по Абрамову «Деревянные кони». Панкин консультирет постановку.
Фото из архива Клуба журналистов КП (личный архив
Людмилы Семиной и Бориса Панкина)
Театр ставит спектакль по Абрамову «Деревянные кони». Панкин консультирет постановку.
Фото из архива Клуба журналистов КП (личный архив
Людмилы Семиной и Бориса Панкина)
Понятно, что такую самостоятельность главреда всего лишь молодежной газеты (хоть и самой многотиражной в стране — и это при централизованной лимитированной разнарядке на ее подписку) партийные бонзы не приветствовали. Член Политбюро Ц К КПСС, курирующий там сельское хозяйство, предсовмина РСФСР Дмитрий Полянский обвинял Панкина за продвижение кубанского опыта безнарядных звеньев как прообраза фермерского хозяйства в «потакании кулацким инстинктам». За положительные очерки о методиках Сухомлинского и Шаталина как педагогике новаторства, красноречиво разоблачающие косность советской школы, разнос на бюро Московского горкома партии и на коллегии Минобра СССР. За публикацию интервью с опальным маршалом Георгием Жуковым — объяснительная министру обороны СССР и вызов «на ковер» в Кремль. Даже за персональную рубрику Панкина «Читатель-газета-читатель», где главред отвечал на вопросы многомиллионной почты от подписчиков, ему нередко, как шутил, «шили крамолу».
Неугомонного главреда пытались «передвинуть» с его поста соблазнительными предложениями, звали и в отдел пропаганды «большого» ЦК, и собкором «Правды» в Югославию. Наконец, уже не спрашивая согласия, поручили в 1973 году создать Всесоюзное агентство по авторским правам. Ранг министра. Продвижение отечественной культуры за рубеж. Почти десять лет он им руководил, обеспечив реальный прорыв лучших произведений и лучших авторов по всему миру.
С 1982 года — Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Швеции, Чехословакии, РФ в Англии (1992−94). В 1991 году — Министр иностранных дел СССР.
Из резонансных акци и выступлений Панкина-дипломата можно отметить его личное заявление на посту советского посла в Праге в августе 1991 года против ГКЧП, оказавшееся практически единственным в дипломатической среде того периода; восстановление дипломатических отношений с Израилем и Мадридское соглашение об урегулировании арабо-израильского конфликта на посту последнего советского министра иностранных дел. Написанная и опубликованная издательством «Соверешенно секретно» в 1992 году книга Панкина «Сто оборванных дней" — о последних днях СССР, обострила его отношения посла России в Великобритании с командой Ельцина, что привело к досрочной отставке в 1994 году.
Неугомонного главреда пытались «передвинуть» с его поста соблазнительными предложениями, звали и в отдел пропаганды «большого» ЦК, и собкором «Правды» в Югославию. Наконец, уже не спрашивая согласия, поручили в 1973 году создать Всесоюзное агентство по авторским правам. Ранг министра. Продвижение отечественной культуры за рубеж. Почти десять лет он им руководил, обеспечив реальный прорыв лучших произведений и лучших авторов по всему миру.
С 1982 года — Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Швеции, Чехословакии, РФ в Англии (1992−94). В 1991 году — Министр иностранных дел СССР.
Из резонансных акци и выступлений Панкина-дипломата можно отметить его личное заявление на посту советского посла в Праге в августе 1991 года против ГКЧП, оказавшееся практически единственным в дипломатической среде того периода; восстановление дипломатических отношений с Израилем и Мадридское соглашение об урегулировании арабо-израильского конфликта на посту последнего советского министра иностранных дел. Написанная и опубликованная издательством «Соверешенно секретно» в 1992 году книга Панкина «Сто оборванных дней" — о последних днях СССР, обострила его отношения посла России в Великобритании с командой Ельцина, что привело к досрочной отставке в 1994 году.

Из «Комсомольской правды» Борис Панкин уходил в ранге министра
СССР — председателем вновь созданного Всесоюзного агентства по
авторским правам (ВААП), которое прозвали «Минкультом для заграницы».
Фото из архива Клуба журналистов КП (личный архив
Людмилы Семиной и Бориса Панкина)
СССР — председателем вновь созданного Всесоюзного агентства по
авторским правам (ВААП), которое прозвали «Минкультом для заграницы».
Фото из архива Клуба журналистов КП (личный архив
Людмилы Семиной и Бориса Панкина)
Борис Панкин — член Союза писателей России и Швеции, Союза журналистов России. Лауреат Государственной премии в области литературы (1982), премий Союза журналистов и Ленинского комсомола. Лауреат национальной премии «Элита» (2003). Первый лауреат премии Integration Prize за развитие культурных и интеллектуальных связей Швеции с другими странами, носящей с тех пор имя Бориса Панкина. Премия имени Юрия Казакова казахстансткой секции Пен клуба, членом которого был избран.
Имеет ордена и медали СССР, а также медаль «За доблесть» Конгресса США.
В 2016 году Борису Дмитриевичу Панкину исполнилось 85 лет. Он в строю, издает книги, пишет публицистику, активно комментирует события, выступает с докладами и лекциями.
Именно ему первому было присвоено звание «Легенда «Комсомольской правды» от журналистского сообщества всех поколений газеты.
Имеет ордена и медали СССР, а также медаль «За доблесть» Конгресса США.
В 2016 году Борису Дмитриевичу Панкину исполнилось 85 лет. Он в строю, издает книги, пишет публицистику, активно комментирует события, выступает с докладами и лекциями.
Именно ему первому было присвоено звание «Легенда «Комсомольской правды» от журналистского сообщества всех поколений газеты.

О легендах «Комсомольской правды»
КАК РЕПИН БЫЛ ИХТИАНДРОМ И РОБИНЗОНОМ

Всемирная воистину слава накрыла Леонида Репина, репортера «Комсомольской правды», когда он в 1974 году вернулся с необитаемого острова в Тихом океане, где три путешественника провели в одиночестве целый месяц на положении Робинзонов. Его репортажи разошлись тогда по всему миру. Не исключено, что именно они дали старт спустя тридцать лет телевизионному проекту «Последний герой».
Однако журналистская судьба Леонида Репина гораздо полновесней, чем лишь это приключение. В 1964 году его пригласили в «Комсомолку» ведущим только что запущенной полосы отдела науки и техники «Клуб любознательных». Репин выпускал ее десять лет, создав уникальный формат отсутствующей тогда в стране массовой газеты о достижениях и проблемах научной среды. Кстати, это единственная рубрика советской «Комсомолки», дожившая до сего дня. Ей уже больше полувека. Как и стажу работы в газете ее первого ведущего, публикации которого по-прежнему на полосе. Сам Леонид выделяет в своих писаниях несколько основных линий.
Однако журналистская судьба Леонида Репина гораздо полновесней, чем лишь это приключение. В 1964 году его пригласили в «Комсомолку» ведущим только что запущенной полосы отдела науки и техники «Клуб любознательных». Репин выпускал ее десять лет, создав уникальный формат отсутствующей тогда в стране массовой газеты о достижениях и проблемах научной среды. Кстати, это единственная рубрика советской «Комсомолки», дожившая до сего дня. Ей уже больше полувека. Как и стажу работы в газете ее первого ведущего, публикации которого по-прежнему на полосе. Сам Леонид выделяет в своих писаниях несколько основных линий.

1974 год. Репортер «Комсомольской правды» Леонид Репин проводит эксперимент на выживание на необитаемом острове в Тихом океане. Таким он встретил коллегу-фотокора через месяц после существования на подножном корму.

Цикл репортажей Леонида Репина об эксперименте на выживание на необитаемом острове печатался из номера в номер, сразу превращая их в сенсационные.
Репортерская.
В 1968 году он запустил в журналистский оборот понятие «экспедиция газеты». До него это было сугубо научной категорией. Будучи прирожденным искателем приключений и путешественником, а также чемпионом по духу (был спортсменом и чемпионом Москвы по бегу на короткие дистанции, между прочим), Репин решил сам организовать от имени «Комсомолки» научно-спортивную экспедицию — полет на воздушном шаре. И летом 1968 года полетел, преодолев все запретительные барьеры, раздобыв и шар, и газ, и полетные разрешения. Аэронавт Репин стал лауреатом звания СЖ СССР «Лучший репортер года», а экспедиции с тех пор стали популярным журналистским жанром.
В 1968 году он запустил в журналистский оборот понятие «экспедиция газеты». До него это было сугубо научной категорией. Будучи прирожденным искателем приключений и путешественником, а также чемпионом по духу (был спортсменом и чемпионом Москвы по бегу на короткие дистанции, между прочим), Репин решил сам организовать от имени «Комсомолки» научно-спортивную экспедицию — полет на воздушном шаре. И летом 1968 года полетел, преодолев все запретительные барьеры, раздобыв и шар, и газ, и полетные разрешения. Аэронавт Репин стал лауреатом звания СЖ СССР «Лучший репортер года», а экспедиции с тех пор стали популярным журналистским жанром.

1968 год. Первая в истории газеты экспедиция «Комсомольской правды» — полет на воздушном шаре, организованный репортером отдела науки Леонидом Репиным (слева). В 2018 году отмечается 50-летие этой формы работы и первой полученной Репиным профессиональной награды — звания «Лучший репортер года», присвоенного Союзом журналистов СССР.
Всего Репин участвовал в тридцати с лишним экспедициях, среди них — три самостоятельно организованных на выживание в природной среде: на необитаемом острове (о. Большой Пелес в Тихом океане, в акватории Японского моря, 1974); в сибирской тайге Красноярского края (1977) и по следам русских дальневосточных первопроходцев во главе с Иваном Москвитиным — из Якутска, через хребет Джугджур, по горным рекам Секча и Улья, к Тихому океану (1989). За этот цикл он в 1989 году удостоен учрежденного газетой звания «Король репортажа». Эксперимент на выживание внесен в национальную «Книгу рекордов и достижений «Диво». Сам Репин, однако, гордится не столько своими текстами, сколько тем полезным опытом, который старался в них заложить. Его примеры поведения в экстремальных условиях цитируют ученые всего мира.

1975 год. Африканское путешествие репортера «Комсомольской правды» Леонида Репина едва не закончилось трагически: его взяла в плен военная группировка «Унита» и собиралась осуществить высшую меру наказания. Спасением журналиста занимались высшие руководители Советского Союза.
Не особо афишируя это, Леонид поставил перед собой как журналистом увлекательную цель: итспытать себя во всех стихиях — на земле и под землей, в возддухе и в космосе, на воде и под водой, в горах и в пустыне, на экваторе и за полярными кругами (северным и южным), в джунглях и в тайге… Самое удивительное, что такой немыслимый для одного человека замысел ему удалось реализовать.
В 1966−67 годах он стал первым журналистом-акванавтом, приняв участие в советском аналоге проекта подводного дома Жак Ив Кусто. Первый такой дом «Ихтиандр» на дне Черного моря, подле мыса Тарханкут в Крыму построили молодые инженеры из Донецка, а первые репортажи из-под воды написал спецкор «Комсомольской правды» Леонид Репин. Это было непросто — быстро освоить акваланг и добиться права попасть в проект.
Почти сразу после «Ихтиандра» репортер «Комсомолки» вошел в программу испытаний скафандров всех типов. Первым был лунный, о котором, правда, написать удалось только много лет спустя по причине его засекреченности. Но об испытаниях прочих репортажи шли один за другим: о космическом, радиационном, гатескафе — скафандре, в котором можно было сидеть в горящей печи.
Далее, с 1972 года, — репортажи о проекте «рукопожатия в космосе», совместного советско-американского полета «Союз-Аполлон». Самое начало космической эры, первая стыковка в космосе, первый совместный проект двух космических держав. Репин работал испытателем в этой программе, единственным журналистом, включенным в подготовку полета. Так что и звание космонавта вполне к нему применимо.
На счету Репина — экспедиции со спелеологами в горных пещерах, где приходилось продираться боком, выдыхая воздух, чтобы уменьшить объем груди. Экспедиция с гляциологами на движущиеся ледники Колка и Майли в Северной Осетии (через много лет именно Колка накрыл киногруппу Сергея Бодрова). Репин-путешественник побывал на всех шести континентах, земной экватор пересекал по земле, воздуху и по морю. В его блокноте репортажи из колумбийской Красной пустыни, эвкалиптовых лесов Австралии и непроходимых лесов Амазонии, из сверкающей полудрагоценными камнями среднеазиатской пустыни Гоби (горсть опалов оттуда есть в редакционном музее) и пышущей жаром африканской Сахары. Он описывал пирамиды древних египтян и жертвенные пирамиды ацтеков, на самую высокую из которых — Пирамиду Солнца поднимался; водопады Игуасу в Бразилии, торосовые надолбы Северного Ледовитого океана и поразительной чистоты льды Антарктиды.
Но самым экстремальным оказалось путешествие в Анголу в 1975 году. Вот это было выживание без скидок! Тогда туристы попали в плен враждебной военной группировки «Унита». Репин оказался единственным в то время советским гражданином, оказавшимся в зарубежной тюрьме. Его освобождением занимались лично Андропов, Косыгин и Громыко. История едва не закончилась высшей мерой… Спасение было настоящим чудом. «Комсомольская правда» опубликовала потом десять подвалов об этом редком для советской действительности событии.
В 1966−67 годах он стал первым журналистом-акванавтом, приняв участие в советском аналоге проекта подводного дома Жак Ив Кусто. Первый такой дом «Ихтиандр» на дне Черного моря, подле мыса Тарханкут в Крыму построили молодые инженеры из Донецка, а первые репортажи из-под воды написал спецкор «Комсомольской правды» Леонид Репин. Это было непросто — быстро освоить акваланг и добиться права попасть в проект.
Почти сразу после «Ихтиандра» репортер «Комсомолки» вошел в программу испытаний скафандров всех типов. Первым был лунный, о котором, правда, написать удалось только много лет спустя по причине его засекреченности. Но об испытаниях прочих репортажи шли один за другим: о космическом, радиационном, гатескафе — скафандре, в котором можно было сидеть в горящей печи.
Далее, с 1972 года, — репортажи о проекте «рукопожатия в космосе», совместного советско-американского полета «Союз-Аполлон». Самое начало космической эры, первая стыковка в космосе, первый совместный проект двух космических держав. Репин работал испытателем в этой программе, единственным журналистом, включенным в подготовку полета. Так что и звание космонавта вполне к нему применимо.
На счету Репина — экспедиции со спелеологами в горных пещерах, где приходилось продираться боком, выдыхая воздух, чтобы уменьшить объем груди. Экспедиция с гляциологами на движущиеся ледники Колка и Майли в Северной Осетии (через много лет именно Колка накрыл киногруппу Сергея Бодрова). Репин-путешественник побывал на всех шести континентах, земной экватор пересекал по земле, воздуху и по морю. В его блокноте репортажи из колумбийской Красной пустыни, эвкалиптовых лесов Австралии и непроходимых лесов Амазонии, из сверкающей полудрагоценными камнями среднеазиатской пустыни Гоби (горсть опалов оттуда есть в редакционном музее) и пышущей жаром африканской Сахары. Он описывал пирамиды древних египтян и жертвенные пирамиды ацтеков, на самую высокую из которых — Пирамиду Солнца поднимался; водопады Игуасу в Бразилии, торосовые надолбы Северного Ледовитого океана и поразительной чистоты льды Антарктиды.
Но самым экстремальным оказалось путешествие в Анголу в 1975 году. Вот это было выживание без скидок! Тогда туристы попали в плен враждебной военной группировки «Унита». Репин оказался единственным в то время советским гражданином, оказавшимся в зарубежной тюрьме. Его освобождением занимались лично Андропов, Косыгин и Громыко. История едва не закончилась высшей мерой… Спасение было настоящим чудом. «Комсомольская правда» опубликовала потом десять подвалов об этом редком для советской действительности событии.
Детективная.
С началом перестройки и гласности Леонид Репин вошел в число тех журналистов, которые стали активно осваивать запретные прежде темы, занялись журналистскими расследованиями, компроматом, исследованиями криминальных схем, уголовными преступлениями. Первым циклом этой линии стали громкие публикации об убийствах одиноких людей за квартиры. Они назывались пугающе-зловеще: «Квартира с видом на морг», «Звери в городе», «Любовь до гроба»… Второй залп — расследования хищений нефти и газа на государственном уровне. Коррупционные схемы тогда еще только зарождались, были на виду. Репин самостоятельно докапывался до имен расхитителей, встречался с ними, передавал свидетельства следователям. Эффективность своих расследований он считал по переданным в суд делам. Вслед за топливом последовали статьи о кражах на золотообогатительных фабриках, о хищениях и подпольных поставках в Москву якутских алмазов. Всего спецкор «Комсомолки» провел более 50 таких расследований.
Но было одно преступление, на расследование которого у Репина ушло десять (!) лет. Речь об убийстве в 1985 году семерых мальчиков в хакасской тайге. Чтобы скрыть улики, убийцы — в стельку пьяные отморозки, забившие на железнодорожном разъезде подростков молотками, бросили их тела под поезд. Убийц арестовали сразу, но вот собрать неопровержимые улики не удавалось. Дело взял под личный контроль президент России Борис Ельцин. И только когда был привлечен выдающийся криминалист, следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре Владимир Гуженков, удалось довести следствие до конца. Журналист «Комсомолки» Леонид Репин вместе с ним выезжал на место события, участвовал в допросах подозреваемых, ходил по таежным тропам, самостоятельно изыскивая возможных свидетелей. Газетный триллер «На тихой станции, в тайге» держал в напряжении всю страну. Материалы журналистского поиска, давшего дополнительные факты, а также публикации в газете были приобщены к делу. Убийцы были изобличены. Заключительный отчет с заседания Верховного суда Репин опубликовал в 1995 году.
Чтобы его родная газета обладала эксклюзивными материалами, Леонид стремился оказаться на месте происшествия не только первым, но и единственным. На долгие годы он прочно занял нишу репортажей с места катастроф. В советские времена такие происшествия всегда скрывались под грифом секретности. Публикации Репина пробивали первую брешь в доступе к закулисью трагедий. Взрыв лайнера со смертником на борту… Гибель самолета с футбольной командой «Пахтакор»… Новые подробности всемирно известной катастрофы южно-корейского «Боинга»… Летом 1983 года он единственный из корреспондентов центральной прессы сумел оказаться, благодаря помощи главреда Геннадия Селезнева, на месте крушения под Ульяновском теплохода «Александр Суворов», который врезался в железнодорожный мост. Кое-что Репину удалось сообщить в газете. За ним тогда буквально гонялись другие журналисты, и наши, и зарубежные. Но лишь спустя двадцать лет удалось полностью рассказать о том, что видел своими глазами на месте аварии спецкор «Комсомолки». Его свидетельство очевидца так и осталось эсклюзивным.
С началом перестройки и гласности Леонид Репин вошел в число тех журналистов, которые стали активно осваивать запретные прежде темы, занялись журналистскими расследованиями, компроматом, исследованиями криминальных схем, уголовными преступлениями. Первым циклом этой линии стали громкие публикации об убийствах одиноких людей за квартиры. Они назывались пугающе-зловеще: «Квартира с видом на морг», «Звери в городе», «Любовь до гроба»… Второй залп — расследования хищений нефти и газа на государственном уровне. Коррупционные схемы тогда еще только зарождались, были на виду. Репин самостоятельно докапывался до имен расхитителей, встречался с ними, передавал свидетельства следователям. Эффективность своих расследований он считал по переданным в суд делам. Вслед за топливом последовали статьи о кражах на золотообогатительных фабриках, о хищениях и подпольных поставках в Москву якутских алмазов. Всего спецкор «Комсомолки» провел более 50 таких расследований.
Но было одно преступление, на расследование которого у Репина ушло десять (!) лет. Речь об убийстве в 1985 году семерых мальчиков в хакасской тайге. Чтобы скрыть улики, убийцы — в стельку пьяные отморозки, забившие на железнодорожном разъезде подростков молотками, бросили их тела под поезд. Убийц арестовали сразу, но вот собрать неопровержимые улики не удавалось. Дело взял под личный контроль президент России Борис Ельцин. И только когда был привлечен выдающийся криминалист, следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре Владимир Гуженков, удалось довести следствие до конца. Журналист «Комсомолки» Леонид Репин вместе с ним выезжал на место события, участвовал в допросах подозреваемых, ходил по таежным тропам, самостоятельно изыскивая возможных свидетелей. Газетный триллер «На тихой станции, в тайге» держал в напряжении всю страну. Материалы журналистского поиска, давшего дополнительные факты, а также публикации в газете были приобщены к делу. Убийцы были изобличены. Заключительный отчет с заседания Верховного суда Репин опубликовал в 1995 году.
Чтобы его родная газета обладала эксклюзивными материалами, Леонид стремился оказаться на месте происшествия не только первым, но и единственным. На долгие годы он прочно занял нишу репортажей с места катастроф. В советские времена такие происшествия всегда скрывались под грифом секретности. Публикации Репина пробивали первую брешь в доступе к закулисью трагедий. Взрыв лайнера со смертником на борту… Гибель самолета с футбольной командой «Пахтакор»… Новые подробности всемирно известной катастрофы южно-корейского «Боинга»… Летом 1983 года он единственный из корреспондентов центральной прессы сумел оказаться, благодаря помощи главреда Геннадия Селезнева, на месте крушения под Ульяновском теплохода «Александр Суворов», который врезался в железнодорожный мост. Кое-что Репину удалось сообщить в газете. За ним тогда буквально гонялись другие журналисты, и наши, и зарубежные. Но лишь спустя двадцать лет удалось полностью рассказать о том, что видел своими глазами на месте аварии спецкор «Комсомолки». Его свидетельство очевидца так и осталось эсклюзивным.

Всю жизнь журналист «Комсомолки» Леонид Репин неразлучен со спортом. В свое время был чемпионом Москвы в беге на короткие дистанции. Здоровый образ жизни он вел всегда, всю жизнь, например, вставал не позже семи утра, не ел после шести вечера, не курил, практически не употреблял алкоголя.
Историческая.
В своей повести «Время-бремя», выпущенной Леонидом Репиным к 90-летию «Комсомольской правды», он рассказал поразительную и практически никому не известную историю из предвоенной поры. Был в редакции сотрудник-орденоносец, что в те времена было громадной привилегией. Никто в редакции не знал, чем он занимается, куда порой исчезает, за что получает награды. История завершилась в тот момент, когда не прошли проверку документы, поданные на присвоение ему звания Героя Советского Союза. Выяснилось, что это был авантюрист-уголовник, сбежавший из места заключения, проникший на шестой этаж «Комсомолки» под видом секретного агента НКВД и воспользовавшийся телефоном кремлевской связи в кабинете главреда. Раздобыл бланки наградных документов, сам их оформлял и отправлял по инстанциям, подкрепляя телефонными договоренностями с высшими чинами (!).
В своей повести «Время-бремя», выпущенной Леонидом Репиным к 90-летию «Комсомольской правды», он рассказал поразительную и практически никому не известную историю из предвоенной поры. Был в редакции сотрудник-орденоносец, что в те времена было громадной привилегией. Никто в редакции не знал, чем он занимается, куда порой исчезает, за что получает награды. История завершилась в тот момент, когда не прошли проверку документы, поданные на присвоение ему звания Героя Советского Союза. Выяснилось, что это был авантюрист-уголовник, сбежавший из места заключения, проникший на шестой этаж «Комсомолки» под видом секретного агента НКВД и воспользовавшийся телефоном кремлевской связи в кабинете главреда. Раздобыл бланки наградных документов, сам их оформлял и отправлял по инстанциям, подкрепляя телефонными договоренностями с высшими чинами (!).

«Клуб любознательных» — самая долгоживущая рубрика «Комсомольской правды», у истоков которой стоит обозреватель газеты Леонид Репин. В 2019 году «Клуб любознательных» отметит свой 55-летний юбилей.
Страсть Леонида Репина к раскопкам всевозможных исторических тайн и событий стала еще одной ключевой линией его творчества. Много лет он собирает материалы и публикует цикл очерков «Как расстреляли генетику» о российской школе генетиков, о погибших и подвергнутых репрессиям ученых, открывая читателю неизвестные до его исследований факты. Более 20 очерков уже появились на свет. Работа продолжается.
Столица обязана обозревателю «Комсомольской правды» Репину спасением многих своих культурно-исторических мест. Именно после его публикации «Ленинка жива, Ленинка почти жива, Ленинка будет жить?» начались, наконец, работы по восстановлению знаменитого Пашкова дома, годами стоявшего в лесах. Только после публикаций Репина «Парк злодейства и забвения» и «Наезд на Нескучный» было приостановлено строительство нового жилого дома на территории парка, засыпан отрытый уже котлован, прекращена вырубка деревьев, закрыт проект строительства фотоцентра в саду.
Он шел по следам Гиляревского по переулкам старой Москвы, проникая с диггерами в ее подземелья, тринадцать лет вел рубрики «Московские романы», «Страшные места Москвы», «Прогулки по Москве», в очередной раз получив за этот цикл звание «Лучшего репортера года». Сегодня персональная историческая рубрика Леонида Репина на страницах газеты называется «Свидетель времени».
В 2017 году он отметил свое 80-летие. В 2018 году отмечает 50-летие рубрики «Экспедиция «Комсомольской правды». На его счету только репортажей больше двух тысяч. Дважды лауреат звания «Легенда «Комсомольской правды» (редакционное -2016, журналистов всех поколений — 2017).
Столица обязана обозревателю «Комсомольской правды» Репину спасением многих своих культурно-исторических мест. Именно после его публикации «Ленинка жива, Ленинка почти жива, Ленинка будет жить?» начались, наконец, работы по восстановлению знаменитого Пашкова дома, годами стоявшего в лесах. Только после публикаций Репина «Парк злодейства и забвения» и «Наезд на Нескучный» было приостановлено строительство нового жилого дома на территории парка, засыпан отрытый уже котлован, прекращена вырубка деревьев, закрыт проект строительства фотоцентра в саду.
Он шел по следам Гиляревского по переулкам старой Москвы, проникая с диггерами в ее подземелья, тринадцать лет вел рубрики «Московские романы», «Страшные места Москвы», «Прогулки по Москве», в очередной раз получив за этот цикл звание «Лучшего репортера года». Сегодня персональная историческая рубрика Леонида Репина на страницах газеты называется «Свидетель времени».
В 2017 году он отметил свое 80-летие. В 2018 году отмечает 50-летие рубрики «Экспедиция «Комсомольской правды». На его счету только репортажей больше двух тысяч. Дважды лауреат звания «Легенда «Комсомольской правды» (редакционное -2016, журналистов всех поколений — 2017).

О легендах «Комсомольской правды»
КАК СНЕГИРЕВ ОТКРЫЛ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

Легенда «Комсомольской правды» Владимир Снегирев получил это звание на своем 70-летнем юбилее. Он по-прежнему в строю, пишет, выпускает книги, готовит еженедельные газетные публикации.
Владимир Снегирев пришел в «Комсомолку» 22-летним юнцом сразу после окончания журфака Уральского университета. Причем о том, чтобы когда-нибудь оказаться на Шестом этаже, он и не мечтал. Но две студенческие практики в «Известиях» сыграли свою роль: начальники с улицы Правды обратились к коллегам с Пушкинской площади с просьбой порекомендовать какого-нибудь способного юношу — так Снегирев, еще не получив диплома о высшем образовании, оказался корреспондентом знаменитой газеты. И, как он сам вспоминает, вначале сильно растерялся: кругом были мэтры журналистики, живые классики, что ни имя, то легенда. Он быстро осознал, что приглашение на Шестой этаж — это всего лишь аванс, счастливый случай, что его прежние умения, которые были хороши в Свердловске, здесь никуда не годятся, надо начинать с нуля.
Эта растерянность могла бы сыграть с ним роковую роль, если бы не очередной счастливый случай — теперь в лице московского ученого Димы Шпаро; тот пришел в «Комсомолку» с идеей полярной экспедиции газеты с последующим покорением на лыжах Северного полюса. Идея эта была настолько сумасшедшей, что тогдашний главный редактор Борис Панкин ее сходу подхватил. На лыжах к Северному полюсу? Да в то время каждый полет над Арктикой считался почти героическим. Но это была «Комсомолка», и сюда можно было прийти и со столь безумным замыслом.
Эта растерянность могла бы сыграть с ним роковую роль, если бы не очередной счастливый случай — теперь в лице московского ученого Димы Шпаро; тот пришел в «Комсомолку» с идеей полярной экспедиции газеты с последующим покорением на лыжах Северного полюса. Идея эта была настолько сумасшедшей, что тогдашний главный редактор Борис Панкин ее сходу подхватил. На лыжах к Северному полюсу? Да в то время каждый полет над Арктикой считался почти героическим. Но это была «Комсомолка», и сюда можно было прийти и со столь безумным замыслом.

Все семидесятые годы для Владимира Снегирева прошли в подходах к Северному полюсу. Он и сам принимал участие в первых лыжных переходах по Арктике, в качестве радиста полярной экспедиции «Комсомольской правды».
Фото из личного архива Владимира Снегирева
Фото из личного архива Владимира Снегирева
Вот когда, по словам Снегирева, у него открылось «второе дыхание», а из-под его пера стали выходить заметки, за которые ему не было стыдно. Он продолжал работать в отделе спорта, освещал Олимпиады (их четыре на счету Владимира), ездил на крупные международные соревнования, дружил с Владиславом Третьяком, вместе с коллегами придумал футбольный «Супер-Кубок» Советского Союза, но главным делом его жизни на многие годы стала полярная экспедиция.
На лыжах к Полюсу? Никто тогда не верил в такое. Еще были живы папанинцы — легендарные герои, которых в 1937 году забросили «на земную макушку» не менее легендарные летчики. Еще не утихли споры: кто первым покорил полюс на собачьих упряжках в начале века — Пири или Кук? И только-только вышел на экраны знаменитый фильм «Красная палатка», повествующий о драматической экспедиции к полюсу адмирала Нобиле на дирижабле «Италия». Но на лыжах? Пешком? Больше тысячи километров ледяной пустыни? Нет, заслышав о таком, самые смелые начальники «по северАм» крутили пальцем у виска: безумцы!
Владимир Снегирев написал о полярной экспедиции «Комсомольской правды» и об Арктике сотни репортажей в газету, несколько книг, сценарии документальных фильмов. Но вначале он сам встал на лыжи, участвуя как радист в первом экспедиционном походе по Северной Земле: 500 километров по ледникам и островам самого сурового арктического архипелага! Это было в 1971-м. А затем, на следующий год, отправился и во второй маршрут — через пролив Лонга, отделяющий Чукотку от острова Врангеля. Вот как он сам вспоминает об этом в книге «Рыжий»:
"Когда я стал участником полярной экспедиции, то словно порыв свежего ветра ворвался в форточку. Дни наполнились неведомым прежде содержанием. Во льдах не было идеологии. Зато была бездна романтики. Я с головой погрузился в историю освоения Арктики. Какие героические судьбы открылись! Какие приключения и подвиги! Полюс, словно сильный магнит, всегда притягивал к себе людей, кружил им головы, заставлял совершать поступки порой безрассудные. Только ради того, чтобы ступить на него. Только чтобы увидеть эту воображаемую, ничем не отмеченную точку. Только чтобы сказать: «Я сделал это!»
На лыжах к Полюсу? Никто тогда не верил в такое. Еще были живы папанинцы — легендарные герои, которых в 1937 году забросили «на земную макушку» не менее легендарные летчики. Еще не утихли споры: кто первым покорил полюс на собачьих упряжках в начале века — Пири или Кук? И только-только вышел на экраны знаменитый фильм «Красная палатка», повествующий о драматической экспедиции к полюсу адмирала Нобиле на дирижабле «Италия». Но на лыжах? Пешком? Больше тысячи километров ледяной пустыни? Нет, заслышав о таком, самые смелые начальники «по северАм» крутили пальцем у виска: безумцы!
Владимир Снегирев написал о полярной экспедиции «Комсомольской правды» и об Арктике сотни репортажей в газету, несколько книг, сценарии документальных фильмов. Но вначале он сам встал на лыжи, участвуя как радист в первом экспедиционном походе по Северной Земле: 500 километров по ледникам и островам самого сурового арктического архипелага! Это было в 1971-м. А затем, на следующий год, отправился и во второй маршрут — через пролив Лонга, отделяющий Чукотку от острова Врангеля. Вот как он сам вспоминает об этом в книге «Рыжий»:
"Когда я стал участником полярной экспедиции, то словно порыв свежего ветра ворвался в форточку. Дни наполнились неведомым прежде содержанием. Во льдах не было идеологии. Зато была бездна романтики. Я с головой погрузился в историю освоения Арктики. Какие героические судьбы открылись! Какие приключения и подвиги! Полюс, словно сильный магнит, всегда притягивал к себе людей, кружил им головы, заставлял совершать поступки порой безрассудные. Только ради того, чтобы ступить на него. Только чтобы увидеть эту воображаемую, ничем не отмеченную точку. Только чтобы сказать: «Я сделал это!»

Семидесятые годы.
Заместитель редактора по спортивному отделу Владимир Снегирев (слева) берет интервью у Владислава Третьяка, легендарного вратаря советской сборной по хоккею
Фото из личного архива Владимира Снегирева
Заместитель редактора по спортивному отделу Владимир Снегирев (слева) берет интервью у Владислава Третьяка, легендарного вратаря советской сборной по хоккею
Фото из личного архива Владимира Снегирева
Пройдет целых восемь лет, прежде чем мечта исполнится. Все эти годы пролетели как бы на одном дыхании. По нескольку раз в неделю участники экспедиции тренировались в спорткомплексе издательства «Правда», готовили снаряжение, радиосвязь, каждую весну отправлялись на Север. Бориса Панкина сменил Лев Корнешов, потом на редакторскую вахту заступил Валерий Ганичев, но надо отдать должное всем: каждый из них в меру своих сил тоже поддерживал сумасшедшую идею покорения полюса. Впрочем, союзники появлялись не только на Шестом этаже. Ребята с теплотой вспоминают о поддержке первого секретаря ЦК комсомола Бориса Пастухова, который взял на себя ответственность перед самой высокой партийной инстанцией, когда на Секретариате Ц К КПСС многие большие руководители категорически высказались против экспедиции и, более того, — требовали наказать ее инициаторов.
Старт к полюсу состоялся в марте 1979 года. Это был драматический эпизод: прямо у острова Генриетты, откуда лыжники отправились в путь, в ходе торошения льдов они провалились в воду, мороз стоял под сорок градусов, но парни справились, никто не запросился обратно на землю. Впереди у них были полторы тысячи километров ледяной пустыни, 76 дней маршрута.
Снегирев отвечал за работу штаба экспедиции. Семь человек шли на лыжах, базовые радисты трудились на дрейфующих станциях «Северный полюс», в его же обязанности входило все это увязывать — ход лыжников, вахты базовых групп, парашютные сбросы продовольствия и горючего (они осуществлялись раз в две недели), взаимодействие с авиацией и еще многое-многое другое… Он утверждает, что те 76 дней были лучшими днями их жизни: «Сумасшедшая, безумная, бессонная, сладкая весна 1979-го года».
Из книги В. Снегирева «Рыжий»: «Там тогда многое свелось — и магия полюса, и верность цели, и настоящая мужская дружба, и острота ощущений от смертельной опасности, и то, что мы были первыми… Все сплелось, будоражило, кипела кровь. Я мог не спать много суток подряд и — ничего, ни усталости, ни раздражения. В каждый номер газеты следовало писать репортаж или очерк. Составлять десятки радиограмм. Готовить заседания штаба. Разгребать череду больших и малых проблем. Отчеты в „инстанции“. Командировки на север… Я не знаю, что такое наркотик, но, наверное, мы были прочно нанизаны на ту иглу».
31 мая 1979 года в два часа сорок пять минут по московскому времени семь лыжников ступили на «земную макушку». Потом на полюсе состоялась трогательная церемония: поднятие флага, хоровод вокруг «земной оси», приветствие почетных гостей, среди которых были поэт Андрей Вознесенский, полярник Артур Чилингаров, журналисты Василий Песков и Юрий Сенкевич. Потом — волнующая встреча на Большой земле. Прием в Кремле. Ордена. Статьи и книги. Приглашение в Лондон на церемонию вручения международного приза «За мужество в спорте».
Экспедиция, как теперь уже ясно, будет навечно вписана в историю нашей «Комсомолки». Не случайно в музее редакции бережно хранятся полярные реликвии тех лет: лыжи, радиостанция, копия непотопляемого контейнера, оставленного на полюсе с запиской для потомков и официальным протоколом о первом в истории пешем покорении вершины Земли. В контейнер, изготовленный на одном из предприятий космической отрасли, согласно традициям тех лет поместили еще символы времени: костыль со строительства БАМа, сноп пшеницы с целины, спецвыпуск «Комсомолки». Возможно, когда-нибудь он будет обнаружен нашими современниками или потомками — во всяком случае, сам Владимир и его друзья-полярники верят в это. И давайте не будем забывать: та вписанная в историю Арктики победа была одержана под флагом «Комсомольской правды».
Тут надо еще сказать, что и впоследствии Владимир Снегирев до конца оставался на командном мостике экспедиции. Были еще походы: первый в истории маршрут по льдам полярной ночью (1986 год), первый в истории лыжный переход от берегов СССР к берегам Канады через полюс (1988 год). Уже другой главный — теперь им был Селезнев — поддерживал экспедицию, в 1988-м Геннадий Николаевич даже участвовал в торжественной встрече лыжников на Северном полюсе.
Наверное, в мире больше нет такой газеты, которая бы так долго, восемнадцать лет (!!!), фактически ежедневно занималась вопросами полярных путешествий. Но ведь и газете это явно шло на пользу. Даже сейчас читатели 70-х и 80-х с восхищением вспоминают репортажи из Арктики, написанные Владимиром Снегиревым, радиограммы с маршрута, составленные Дмитрием Шпаро. Такие строки и воспитывали настоящих мужчин.
Старт к полюсу состоялся в марте 1979 года. Это был драматический эпизод: прямо у острова Генриетты, откуда лыжники отправились в путь, в ходе торошения льдов они провалились в воду, мороз стоял под сорок градусов, но парни справились, никто не запросился обратно на землю. Впереди у них были полторы тысячи километров ледяной пустыни, 76 дней маршрута.
Снегирев отвечал за работу штаба экспедиции. Семь человек шли на лыжах, базовые радисты трудились на дрейфующих станциях «Северный полюс», в его же обязанности входило все это увязывать — ход лыжников, вахты базовых групп, парашютные сбросы продовольствия и горючего (они осуществлялись раз в две недели), взаимодействие с авиацией и еще многое-многое другое… Он утверждает, что те 76 дней были лучшими днями их жизни: «Сумасшедшая, безумная, бессонная, сладкая весна 1979-го года».
Из книги В. Снегирева «Рыжий»: «Там тогда многое свелось — и магия полюса, и верность цели, и настоящая мужская дружба, и острота ощущений от смертельной опасности, и то, что мы были первыми… Все сплелось, будоражило, кипела кровь. Я мог не спать много суток подряд и — ничего, ни усталости, ни раздражения. В каждый номер газеты следовало писать репортаж или очерк. Составлять десятки радиограмм. Готовить заседания штаба. Разгребать череду больших и малых проблем. Отчеты в „инстанции“. Командировки на север… Я не знаю, что такое наркотик, но, наверное, мы были прочно нанизаны на ту иглу».
31 мая 1979 года в два часа сорок пять минут по московскому времени семь лыжников ступили на «земную макушку». Потом на полюсе состоялась трогательная церемония: поднятие флага, хоровод вокруг «земной оси», приветствие почетных гостей, среди которых были поэт Андрей Вознесенский, полярник Артур Чилингаров, журналисты Василий Песков и Юрий Сенкевич. Потом — волнующая встреча на Большой земле. Прием в Кремле. Ордена. Статьи и книги. Приглашение в Лондон на церемонию вручения международного приза «За мужество в спорте».
Экспедиция, как теперь уже ясно, будет навечно вписана в историю нашей «Комсомолки». Не случайно в музее редакции бережно хранятся полярные реликвии тех лет: лыжи, радиостанция, копия непотопляемого контейнера, оставленного на полюсе с запиской для потомков и официальным протоколом о первом в истории пешем покорении вершины Земли. В контейнер, изготовленный на одном из предприятий космической отрасли, согласно традициям тех лет поместили еще символы времени: костыль со строительства БАМа, сноп пшеницы с целины, спецвыпуск «Комсомолки». Возможно, когда-нибудь он будет обнаружен нашими современниками или потомками — во всяком случае, сам Владимир и его друзья-полярники верят в это. И давайте не будем забывать: та вписанная в историю Арктики победа была одержана под флагом «Комсомольской правды».
Тут надо еще сказать, что и впоследствии Владимир Снегирев до конца оставался на командном мостике экспедиции. Были еще походы: первый в истории маршрут по льдам полярной ночью (1986 год), первый в истории лыжный переход от берегов СССР к берегам Канады через полюс (1988 год). Уже другой главный — теперь им был Селезнев — поддерживал экспедицию, в 1988-м Геннадий Николаевич даже участвовал в торжественной встрече лыжников на Северном полюсе.
Наверное, в мире больше нет такой газеты, которая бы так долго, восемнадцать лет (!!!), фактически ежедневно занималась вопросами полярных путешествий. Но ведь и газете это явно шло на пользу. Даже сейчас читатели 70-х и 80-х с восхищением вспоминают репортажи из Арктики, написанные Владимиром Снегиревым, радиограммы с маршрута, составленные Дмитрием Шпаро. Такие строки и воспитывали настоящих мужчин.


Восемь лет готовила «Комсомольская правда» и ее журналист Владимир Снегирев лыжный переход к Северному полюсу полярной экспедиции газеты под руководством Дмитрия Шпаро. Репортажи с трассы перехода шли в каждом номере.
С 1981 года в биографии Снегирева начинается другой этап — афганский, он едет в Кабул, фактически первым собкором «КП» на войне. Год в Афганистане. Причем это было не лучшее время для журналистов: война была засекречена, свирепствовала цензура, а боевые действия, между тем, становились все активнее. Володя фактически первым из советских журналистов приоткрыл тайну над этой войной, написал о наших солдатах и офицерах. Он и впоследствии еще много раз возвращался в Афганистан, счет командировкам потерян. Провел там в общей сложности более трех лет. И опять — сотни репортажей в газете, книги, киносценарии, защита кандидатской диссертации по новейшей истории Афганистана.

Восьмидесятые годы — работа в Афганистане, на положении военного корреспондента необъявленной войны. В 90-х годах Владимир Снегирев вытаскивал наших военнопленных из афганского плена. И с тех пор не пропустил ни одной «горячей точки» на планете.
Фото из личного архива Владимира Снегирева
Фото из личного архива Владимира Снегирева
Мало кто об этом знает, но именно он способствовал освобождению наших военнопленных, а затем еще много лет занимался поисками без вести пропавших бойцов. В конце 1991 года, вместе с двумя британскими журналистами (они были посредниками в предстоящих переговорах с моджахедами), отправился в рискованное путешествие из Таджикистана в Афганистан с целью найти и освободить пленных. Шел Снегирев по заснеженным памирским горам под легендой финна — русского убили бы на первом же километре. А всего таких километров было более трехсот. Кстати, свою резолюцию под решением отправить в Афган эту рискованную экспедицию, наряду с другими высшими лицами государства, поставил и Борис Панкин — тогдашний министр иностранных дел СССР. Тот самый Панкин, который брал когда-то Владимира на работу в «КП».
Очерк Снегирева «Он вернется» — о Герое Советского Союза Руслане Аушеве — вызывал больше всего писем-откликов в 1987 году, этот материал перепечатали затем почти все республиканские, краевые и областные газеты СССР. Его книга «Рыжий» (там есть и полюс, и Афган) получила премию С Ж России, как лучшее документальное произведение года. Другая книга «Вирус «А», написанная в соавторстве с Валерием Самуниным, стала лауреатом Национальной премии «Лучшая книга года».
Очерк Снегирева «Он вернется» — о Герое Советского Союза Руслане Аушеве — вызывал больше всего писем-откликов в 1987 году, этот материал перепечатали затем почти все республиканские, краевые и областные газеты СССР. Его книга «Рыжий» (там есть и полюс, и Афган) получила премию С Ж России, как лучшее документальное произведение года. Другая книга «Вирус «А», написанная в соавторстве с Валерием Самуниным, стала лауреатом Национальной премии «Лучшая книга года».

Сам Владимир Снегирев считает, что «легенды КП» —
это едва ли не все журналисты, работавшие когда-то на Шестом этаже. Вот он — с «легендами» у себя на даче: Михаил Кожухов, Акрам Муртазаев, Юрий Филинов, Вячеслав Недошивин, Виталий Абрамов.
Фото из личного архива Владимира Снегирева
это едва ли не все журналисты, работавшие когда-то на Шестом этаже. Вот он — с «легендами» у себя на даче: Михаил Кожухов, Акрам Муртазаев, Юрий Филинов, Вячеслав Недошивин, Виталий Абрамов.
Фото из личного архива Владимира Снегирева
В перестроечные 1985−88 годы Владимир Снегирев возглавил первый в стране цветной еженедельник «Собеседник», который в то время был приложением к «Комсомольской правде». Он и потом не потерялся в бурном, стремительно перестраивающемся на новый лад журналистском мире: был главным редактором, директором и издателем журналов («Вояж», «Вояж и отдых», «Национальный банковский журнал»), главным редактором газеты «Метро», международным корреспондентом «Вечерней Москвы» и «Российской газеты». Его авторитет среди фронтовых журналистов не подвергается сомнению: освещал бевые действия и конфликты в Афганистане, Ираке, Карабахе, на Северном Кавказе, в Косово, Сирии, Ливии, Египте…
Награжден знаком «Золотое перо России», лауреат премии имени Юлиана Семенова «За достижения в области экстремальной журналистики». Лауреат премии СЖ СССР и СЖ РФ. Награжден тремя орденами, а также медалями РФ, ДРА, стран СНГ.
К своему 70-летию в 2017 году выпустил новую документальную книгу «Как карта ляжет».
Награжден знаком «Золотое перо России», лауреат премии имени Юлиана Семенова «За достижения в области экстремальной журналистики». Лауреат премии СЖ СССР и СЖ РФ. Награжден тремя орденами, а также медалями РФ, ДРА, стран СНГ.
К своему 70-летию в 2017 году выпустил новую документальную книгу «Как карта ляжет».

2010-е годы Владимир Снегирев проводит в Европе собственным корреспондентом «Российской газеты». Одна из любимых командировок — неделя бесед под Парижем с другом, известным скульптором Михаилом Шемякиным.
Фото из личного архива Владимира Снегирева
Фото из личного архива Владимира Снегирева
С 2016 года представляет «Российскую газету» в Праге, как корреспондент по странам Центральной Европы.
Удостоен в числе первых трех лауреатов звания «Легенда «Комсомольской правды» (2017).
Удостоен в числе первых трех лауреатов звания «Легенда «Комсомольской правды» (2017).

О легендах «Комсомольской правды»
Как Лидия Графова преодолела «абстрактный гуманизм»

Жизнь взахлеб
Для своего авторского вечера в клубе журналистов «Комсомольской правды» Лидия Графова написала мини-биографию, лучше который не составить. Поэтому есть смысл привести её здесь.
«Я пришла в «Комсомольскую правду» – с ума сойти – сегодня, в 2020 году — это уже шестьдесят лет назад. Прожила на шестом этаже аж девятнадцать лет... Моя первая заметка в ней называлась «Серебряные купола»". Это про СОЛА – симферопольское общество любителей астрономии, кружок звездочетов-энтузиастов, главное событие моего детства. Мы вели, как ни странно, серьезные научные исследования. Заметку поставили подвалом на первую полосу, и Давид Иосифович Новоплянский предложил сразу, как только защищу диплом, идти стажером в отдел информации.
Для своего авторского вечера в клубе журналистов «Комсомольской правды» Лидия Графова написала мини-биографию, лучше который не составить. Поэтому есть смысл привести её здесь.
«Я пришла в «Комсомольскую правду» – с ума сойти – сегодня, в 2020 году — это уже шестьдесят лет назад. Прожила на шестом этаже аж девятнадцать лет... Моя первая заметка в ней называлась «Серебряные купола»". Это про СОЛА – симферопольское общество любителей астрономии, кружок звездочетов-энтузиастов, главное событие моего детства. Мы вели, как ни странно, серьезные научные исследования. Заметку поставили подвалом на первую полосу, и Давид Иосифович Новоплянский предложил сразу, как только защищу диплом, идти стажером в отдел информации.
Отдел этот распахнул передо мной всю необъятность Советского Союза. Это ж, подумать только, какое счастье: можно было отправляться в любую точку нашей огромной родины, если только придумаешь интересную тему. Это была жизнь взахлёб. Я летала в пустыню Кара-Кумы, привезла репортаж со станции «Репетек», где ученые-юмористы грозились прислать мне (если что-нибудь перепутаю) посылку с «эфочкой», ядовитой змейкой. Дважды побывала на БАМе и до сих пор помню восторг озноба, когда поезд из трех вагончиков (под звук фанфар) по только что проложенным рельсам отходил от станции Тында. Довелось постоять на берегу Пролива Счастья (по ту сторону был виден Сахалин). Почему-то прямо оттуда полетела в Красный Кут Красноярского края, где жили загадочные люди вымирающего племени нивхов. Проплыла на пожарном катере от Листвянки до верховьев Байкала, спускалась в скафандре первой из журналистов на дно этого славного моря — могла бы теперь сама себе не поверить, но есть фото.
И даже (спасибо Володе Снегиреву) посчастливилось добраться до макушки Земли, когда на Северный полюс пришла на лыжах экспедиции «Комсомольской правды» Дмитрия Шпаро. В экспедицию был приглашен поэт Андрей Вознесенский, попавший тогда в немилость за участие в диссидентском журнале «Метрополь». Редактор «Комсомолки» Борис Панкин, разрешивший пригласить «крамольного» Вознесенского, конечно, рисковал. Впрочем, не в первый и не в последний раз. Вознесенский прямо там, на макушке, на льдине, пробормотал замечательные строчки, которые я потом нигде не видела опубликованными. Привожу их по памяти, почти прозой: «...Пойми, что полюс собирает в фокус все наилучшее в тебе». Для меня это не только про полюс, но и про «Комсомолку». Про ту нашу наивную, озорную, отважную, высоко нравственную, озабоченную судьбой страны и неустанно сражающуюся за «маленького человека» газету.
И даже (спасибо Володе Снегиреву) посчастливилось добраться до макушки Земли, когда на Северный полюс пришла на лыжах экспедиции «Комсомольской правды» Дмитрия Шпаро. В экспедицию был приглашен поэт Андрей Вознесенский, попавший тогда в немилость за участие в диссидентском журнале «Метрополь». Редактор «Комсомолки» Борис Панкин, разрешивший пригласить «крамольного» Вознесенского, конечно, рисковал. Впрочем, не в первый и не в последний раз. Вознесенский прямо там, на макушке, на льдине, пробормотал замечательные строчки, которые я потом нигде не видела опубликованными. Привожу их по памяти, почти прозой: «...Пойми, что полюс собирает в фокус все наилучшее в тебе». Для меня это не только про полюс, но и про «Комсомолку». Про ту нашу наивную, озорную, отважную, высоко нравственную, озабоченную судьбой страны и неустанно сражающуюся за «маленького человека» газету.

1963 год. Первой из журналистов страны (и мира!) репортер «Комсомолки» Лидия Графова побывала на дне Байкала.
Фото из личного архива Л.Графовой.
Фото из личного архива Л.Графовой.
Мной в 60-е годы владела тема Гулага, и потому были командировки в Норильск, на Соловки, в Мурманск, Владивосток, Магадан. Довелось объехать на «перекладных» все так называемое «золотое кольцо Колымы», где дороги вымощены человеческими костями. На трассе в Ягодном мне встретился бывший зек, «австрийский шпион» Петер Демант. Никаким шпионом он, конечно, не был, а после освобождения уехать с Колымы не захотел. Он показал мне фантастически красивые места – мы прошли узкой тропинкой по берегам озёр, которые цепочкой лежат среди сопок. Одни названия чего стоят: озеро Серой чайки, озеро Танцующих хариусов, Озеро Джека Лондона... А сколько незабываемых встреч подарила «Комсомолка»! Была у нас тогда рубрика «Разговор с интересным человеком». Это были именины сердца – писать в эту рубрику. Благодаря «Комсомолке» я познакомилась с Аркадием Райкиным, Михаилом Жванецким, Фазилем Искандером, Натаном Эйдельманом, Андреем Битовым. Многие стали потом близкими друзьями. Сделала для газеты беседу с Валерией Дмитриевной Пришвиной, кажется, называлась «Жизнь это творчество». Стала с тех пор часто бывать у нее в доме на Лаврушинском. Эта встреча была одной из самых значимых в моей судьбе. Она говорила: «Я ничего не боюсь, ни старости, ни болезни. Боюсь только одного — потерять ощущение жизни как Тайны».
А потом меня перевели в литгруппу отдела писем. Здесь я нашла Риту Федотову, Галю Ронину, ВикуСагалову. Нашла навсегда. Они и сейчас остаются моей «референтной группой». Наш отдел регулярно устраивал «Час интересного письма» для всей редакции. Мы чувствовали себя богачами, сидящими на золоте. Самые яркие сюжеты можно было забрать себе и написать очерк в рубрику «Письмо позвало в дорогу». Теперь мне стало уже совершенно безразлично, куда ехать, лишь бы там была интересная ситуация, неординарная личность. Если раньше меня интересовала география пространства, то теперь захватило совсем другое — «география» человеческой души. И здесь открывались свои горы, пустыни, низменности. Можно судить по названию рубрик, которые я вела или в которых участвовала: «Разговор на банальную тему», «Простые истины», «Путь к себе», «Хочешь стать лучше?», «Наедине с собой». Постепенно я выкарабкивалась к теме, которую можно назвать возвышенно, как звучит она в дневниках Толстого: «нравственное самосовершенствование».
А потом меня перевели в литгруппу отдела писем. Здесь я нашла Риту Федотову, Галю Ронину, ВикуСагалову. Нашла навсегда. Они и сейчас остаются моей «референтной группой». Наш отдел регулярно устраивал «Час интересного письма» для всей редакции. Мы чувствовали себя богачами, сидящими на золоте. Самые яркие сюжеты можно было забрать себе и написать очерк в рубрику «Письмо позвало в дорогу». Теперь мне стало уже совершенно безразлично, куда ехать, лишь бы там была интересная ситуация, неординарная личность. Если раньше меня интересовала география пространства, то теперь захватило совсем другое — «география» человеческой души. И здесь открывались свои горы, пустыни, низменности. Можно судить по названию рубрик, которые я вела или в которых участвовала: «Разговор на банальную тему», «Простые истины», «Путь к себе», «Хочешь стать лучше?», «Наедине с собой». Постепенно я выкарабкивалась к теме, которую можно назвать возвышенно, как звучит она в дневниках Толстого: «нравственное самосовершенствование».

Лидия Графова (четвертая слева) с группой журналистов «Комсомольской правды» разных поколений в составе участников международного Родосского форума.
Фото из архива Клуба журналистов КП.
Фото из архива Клуба журналистов КП.
Взлетая к небесам
Не раз Лидия была признана в редакции лучшим репортером года. Но именно тогда, когда ее повернуло на тему нравственных терзаний и поисков, пришел и тот успех, который перевел имя Графовой в ряд нарицательных. Отвечая сегодня на вопрос, с какой публикации в «Комсомолке» начался новый отсчет, она называет очерк «Хоть бы дождь пошел», опубликованный в 1968 году под заголовком «Быть, а не казаться».
Там были две героини - яркая девушка Таня и ее униженная Таней мать Ирина Михайловна, были их непростые взаимоотношения, была сама очеркистка Лидия из «Комсомолки», которая прожила со своими героинями часть собственной жизни и пыталась разобраться теперь, где она оказалась права, а где пошла на поводу обстоятельств. Так в нашей журналистике появилась неожиданная и свежая тема нравственных сомнений АВТОРА.
Вот она пишет там: «Как интересно, но как всё-таки трудно быть жрурналистом. Волей-неволей входишь в чью-то жизнь, выслушиваешь чьи-то признания, сочувствуешь, а потом, спохватившись, вспоминаешь о роли объективного судьи, на которую обрекает тебя профессия... Бывало: отказывалась я писать критическуюстатью, если появлялась надежда, что в человеке пробудился самый главный, самый строгий судья — собственная совесть».
Совесть... Среди репортажей о мартеновских плавках и хлебных жатвах, в окружении деловых корреспонденций и криминальных расследований слова про совесть как таковую звучали непривычно. Такие понятия в те годы числились по ранжиру «абстрактного гуманизма». Был разработан и утвержден в качестве этического ГОСТа «Моральный кодекс строителя коммунизма». Все нормы там были прописаны, причем с единственно верных - классовых - позиций. Нет, никто и после незабытой еще оттепели не требовал, конечно, слепого следования им, не отменял творческого журналистского взгляда на ситуацию этического свойства. Тем более в «Комсомольской правде». Но одно дело рассмотреть, насколько конкретная история соответствует шаблону морального кодекса, и другое - отложить шаблон, подняться над ситуацией и поразмышлять о совести вообще. Подобные размышления воспринимались избыточными.
Не раз Лидия была признана в редакции лучшим репортером года. Но именно тогда, когда ее повернуло на тему нравственных терзаний и поисков, пришел и тот успех, который перевел имя Графовой в ряд нарицательных. Отвечая сегодня на вопрос, с какой публикации в «Комсомолке» начался новый отсчет, она называет очерк «Хоть бы дождь пошел», опубликованный в 1968 году под заголовком «Быть, а не казаться».
Там были две героини - яркая девушка Таня и ее униженная Таней мать Ирина Михайловна, были их непростые взаимоотношения, была сама очеркистка Лидия из «Комсомолки», которая прожила со своими героинями часть собственной жизни и пыталась разобраться теперь, где она оказалась права, а где пошла на поводу обстоятельств. Так в нашей журналистике появилась неожиданная и свежая тема нравственных сомнений АВТОРА.
Вот она пишет там: «Как интересно, но как всё-таки трудно быть жрурналистом. Волей-неволей входишь в чью-то жизнь, выслушиваешь чьи-то признания, сочувствуешь, а потом, спохватившись, вспоминаешь о роли объективного судьи, на которую обрекает тебя профессия... Бывало: отказывалась я писать критическуюстатью, если появлялась надежда, что в человеке пробудился самый главный, самый строгий судья — собственная совесть».
Совесть... Среди репортажей о мартеновских плавках и хлебных жатвах, в окружении деловых корреспонденций и криминальных расследований слова про совесть как таковую звучали непривычно. Такие понятия в те годы числились по ранжиру «абстрактного гуманизма». Был разработан и утвержден в качестве этического ГОСТа «Моральный кодекс строителя коммунизма». Все нормы там были прописаны, причем с единственно верных - классовых - позиций. Нет, никто и после незабытой еще оттепели не требовал, конечно, слепого следования им, не отменял творческого журналистского взгляда на ситуацию этического свойства. Тем более в «Комсомольской правде». Но одно дело рассмотреть, насколько конкретная история соответствует шаблону морального кодекса, и другое - отложить шаблон, подняться над ситуацией и поразмышлять о совести вообще. Подобные размышления воспринимались избыточными.

Первой в истории журналистики Лидия Графова свои сомнения автора сделала главной темой очерка, заслужив обвинения в «абстрактном гуманизме».
Фото Маргариты Кечкиной.
Фото Маргариты Кечкиной.
А Лидия Графова зачем-то пустилась именно в такие «абстрактные» размышления. Причем, и себя зачем-то поставила в один ряд с персонажами очерка, не устрашилась показать себя заблуждающейся, обманывающейся, а потому поначалу несправедливой и неправедной. Она откровенно признается: «Девушка с волосами цвета луны — это три года моей надежды — увы! — не сбывшейся».
Она не стесняется рассказать о своем увлечении Таней, которая, как ей
казалось, даже научила ее, «золотое перо» центральной газеты, чему-то
новому: «Сама Таня показалась похожей на свои отнюдь не ученические стихи
— порывистая, чуть резковатая, слегка небрежная в одежде, не обращающая,
видимо, на неё, как и на рифмы в стихах, особого внимания. Свободный от мелочей, естественный человек. ... Говорила она мне о внутреннем, нравящемся ей одиночестве, и я видела в этом завидный, редкий дар личности — самодостаточность. Какая свобода! Да, она свободна, как дождь, как облако»...
Автор даже не скрывает совсем уж «криминального» факта: Таня увлекла ее, взрослую женщину, в ночное путешествие по городским крышам; они бегали по ним под луной, спрыгивая с одной на другую, и Лидия радовалась, что вот тоже может, как свободная девушка Таня, взлететь в небеса, словно персонаж шагаловской картины.
И вот теперь, в своем очерке, ей приходится раскаиваться, что непозволительно долго грубость Тани по отношению к матери оправдывала, искала причину в неинтересности самой Ирины Михайловны. Таня ведь не скупится на знаки внимания для других: может подарить огромный букет роз или даже помыть пол в помощь. Кому-то... А мать для нее - серая мышь... Графова догадывается - с опозданием, но открыто признавая теперь свои заблуждения: «Неужели вся сложность Таниной натуры в том, что она только играет в красивые чувства, которых на самом деле не испытывает?»
Так весь очерк выходит за рамки частной истории и переходит на новый уровень ее осмысления: о том, как сложно бывает отличить в жизни черное и белое, хорошее и плохое, яркое и серое, подлинное и притворное. О том, как рождается и преодолевается предвзятость, поспешная и поверхностная оценка. «Они, двое (только сейчас это осознаю), были мне как луна, повернутая неизменно одной и той же стороной, родительской... Ну а я, я в этой модели представлялась себе, разумеется, землёй, ради которой луна существует и вертится. Но что я знала, что хотела знать про обратную сторону луны? Как-то и в голову не приходило, что там свои моря, кратеры, вулканы».
По ходу всех этих рассуждений Графова вспоминает и повод, позвавший ее к этой истории; повод, необычайно актуально звучащий именно сегодня, хоть и прошло полвека после публикации: «Рассказал мне о Тане человек, которого знаю давно и мнение которого весьма уважаю. Как-то в беседе с ним всплыло слово «брутальность» ( слово украинское: брутальный — грубый, непочтительный, наглый, дерзкий, деспотичный — Из словаря). Мой собеседник сказал тогда, что в стремительном нашем времени, времени деловых, презирающих эмоции людей, его пугает всё напористей проступающая «брутальность». Именно ею он и охарактеризовал Таню. Но Графовой потребовалось три года, чтобы согласиться со справедливостью его вывода. Ее личные отношения с Таней прошли не через одно испытание, прежде чем автору стала понятна суть характера девушки. И вот беспощадный к себе вывод: «На танино последнее письмо я не ответила. Слишком оно красиво, эффектно. Так же красиво и эффектно, как приносить розы в подарок. Как мыть пол в чужом доме. Как совершать ради кого-то чужого добрый поступок, который ему, чужому, может быть, и ни к чему, а матери был бы спасительным глотком в пустыне. Но не ей — им, чужим. Они восхитятся. В них можно отразиться, как в зеркале. Я тоже была зеркалом. Так долго... И за это мне предстояло испытать гнетущее чувство вины перед матерью. Перед её матерью, перед своей — тоже».
Так очерк вдруг приобрел и еще одну дополнительную тему : о пробуждении совести, о правильном осознании этого понятия. Конец закольцевался с началом, где автор рассматривал свою журналистскую профессию как необходимость пробудить в человеке его собственную совесть.
Возможно, сегодня, когда подобные рассуждения и подобное восприятие человеческих отношений кажутся естественными, когда мы привыкли к психологии как неизменному и необходимому атрибуту нашего быта, новизна и острота той эссеистики Графовой ощутима не так пронзительно, как тогда. Но полвека назад это было сказано ВПЕРВЫЕ. И судьба очерка была неоднозначной. Предложенная Графовой рубрика «Наедине с собой», не сразу была принята даже некоторыми коллегами. На летучке шли споры. Газета считалась по знаменитой формуле тех лет «коллективным агитатором, пропагандистом и организатором». То есть, как опять же тогда говорили, «приводным ремнём» партии, проводником ее идеологических установок. К тому же газета была строго лимитирована в объеме: четыре больших полосы, но только четыре! Официальные материалы, идущие через ТАСС, полные тексты докладов съездов и пленумов партии и комсомола, обязательная событийная хроника от многочисленных собкоров с мест, репортажи об обязательных для освещения в газете государственных мероприятиях и торжествах... За место в номере шла постоянная борьба. И «золотых перьев» в «Комсомолке» всегда было не счесть. Писали они подвалами и чердаками, а то и полосами. А тут еще Графова со своими непонятными «Простыми истинами» и прочим «абстрактным гуманизмом»...
Но надо знать характер Лидии Графовой. Бойцовский! Бесстрашный! Одержимый! И газета недолго сопротивлялась ее напору. Тем более тексты она выдавала такие, что не оторвешься. Переписывала по нескольку раз, бывало, додумав что-то, снимала очерк из номера, чтобы еще раз пройтись по тексту. Можно, пожалуй, сказать, что выстраивала невиданный в советской журналистике жанр, который сегодня назвали бы проповедью.
Как раз в это время произошла ее встреча с Валерией Дмитриевной Пришвиной, которая привела ее, комсомолку, советскую журналистку, к вере в Бога. Проходя путь собственного духовного поиска, Лидия транслировала его и на читательскую аудиторию, которой явно не хватало эмпатии в общественных отношениях. «Комсомольская правда», наверное, единственная из советских газет этим свойством обладала, люди нередко обращались к газете как к духовнику. Читая в своем отделе писем ежедневно десятки человеческих исповедей, Графова уловила эту потребность людей, как и потребность найти в журналисте не только объективного судию, но и такого же живого и раздираемого противоречиями человека, каким были они сами. «Наедине с собой» - это был ее ответ на такую потребность.
Она не стесняется рассказать о своем увлечении Таней, которая, как ей
казалось, даже научила ее, «золотое перо» центральной газеты, чему-то
новому: «Сама Таня показалась похожей на свои отнюдь не ученические стихи
— порывистая, чуть резковатая, слегка небрежная в одежде, не обращающая,
видимо, на неё, как и на рифмы в стихах, особого внимания. Свободный от мелочей, естественный человек. ... Говорила она мне о внутреннем, нравящемся ей одиночестве, и я видела в этом завидный, редкий дар личности — самодостаточность. Какая свобода! Да, она свободна, как дождь, как облако»...
Автор даже не скрывает совсем уж «криминального» факта: Таня увлекла ее, взрослую женщину, в ночное путешествие по городским крышам; они бегали по ним под луной, спрыгивая с одной на другую, и Лидия радовалась, что вот тоже может, как свободная девушка Таня, взлететь в небеса, словно персонаж шагаловской картины.
И вот теперь, в своем очерке, ей приходится раскаиваться, что непозволительно долго грубость Тани по отношению к матери оправдывала, искала причину в неинтересности самой Ирины Михайловны. Таня ведь не скупится на знаки внимания для других: может подарить огромный букет роз или даже помыть пол в помощь. Кому-то... А мать для нее - серая мышь... Графова догадывается - с опозданием, но открыто признавая теперь свои заблуждения: «Неужели вся сложность Таниной натуры в том, что она только играет в красивые чувства, которых на самом деле не испытывает?»
Так весь очерк выходит за рамки частной истории и переходит на новый уровень ее осмысления: о том, как сложно бывает отличить в жизни черное и белое, хорошее и плохое, яркое и серое, подлинное и притворное. О том, как рождается и преодолевается предвзятость, поспешная и поверхностная оценка. «Они, двое (только сейчас это осознаю), были мне как луна, повернутая неизменно одной и той же стороной, родительской... Ну а я, я в этой модели представлялась себе, разумеется, землёй, ради которой луна существует и вертится. Но что я знала, что хотела знать про обратную сторону луны? Как-то и в голову не приходило, что там свои моря, кратеры, вулканы».
По ходу всех этих рассуждений Графова вспоминает и повод, позвавший ее к этой истории; повод, необычайно актуально звучащий именно сегодня, хоть и прошло полвека после публикации: «Рассказал мне о Тане человек, которого знаю давно и мнение которого весьма уважаю. Как-то в беседе с ним всплыло слово «брутальность» ( слово украинское: брутальный — грубый, непочтительный, наглый, дерзкий, деспотичный — Из словаря). Мой собеседник сказал тогда, что в стремительном нашем времени, времени деловых, презирающих эмоции людей, его пугает всё напористей проступающая «брутальность». Именно ею он и охарактеризовал Таню. Но Графовой потребовалось три года, чтобы согласиться со справедливостью его вывода. Ее личные отношения с Таней прошли не через одно испытание, прежде чем автору стала понятна суть характера девушки. И вот беспощадный к себе вывод: «На танино последнее письмо я не ответила. Слишком оно красиво, эффектно. Так же красиво и эффектно, как приносить розы в подарок. Как мыть пол в чужом доме. Как совершать ради кого-то чужого добрый поступок, который ему, чужому, может быть, и ни к чему, а матери был бы спасительным глотком в пустыне. Но не ей — им, чужим. Они восхитятся. В них можно отразиться, как в зеркале. Я тоже была зеркалом. Так долго... И за это мне предстояло испытать гнетущее чувство вины перед матерью. Перед её матерью, перед своей — тоже».
Так очерк вдруг приобрел и еще одну дополнительную тему : о пробуждении совести, о правильном осознании этого понятия. Конец закольцевался с началом, где автор рассматривал свою журналистскую профессию как необходимость пробудить в человеке его собственную совесть.
Возможно, сегодня, когда подобные рассуждения и подобное восприятие человеческих отношений кажутся естественными, когда мы привыкли к психологии как неизменному и необходимому атрибуту нашего быта, новизна и острота той эссеистики Графовой ощутима не так пронзительно, как тогда. Но полвека назад это было сказано ВПЕРВЫЕ. И судьба очерка была неоднозначной. Предложенная Графовой рубрика «Наедине с собой», не сразу была принята даже некоторыми коллегами. На летучке шли споры. Газета считалась по знаменитой формуле тех лет «коллективным агитатором, пропагандистом и организатором». То есть, как опять же тогда говорили, «приводным ремнём» партии, проводником ее идеологических установок. К тому же газета была строго лимитирована в объеме: четыре больших полосы, но только четыре! Официальные материалы, идущие через ТАСС, полные тексты докладов съездов и пленумов партии и комсомола, обязательная событийная хроника от многочисленных собкоров с мест, репортажи об обязательных для освещения в газете государственных мероприятиях и торжествах... За место в номере шла постоянная борьба. И «золотых перьев» в «Комсомолке» всегда было не счесть. Писали они подвалами и чердаками, а то и полосами. А тут еще Графова со своими непонятными «Простыми истинами» и прочим «абстрактным гуманизмом»...
Но надо знать характер Лидии Графовой. Бойцовский! Бесстрашный! Одержимый! И газета недолго сопротивлялась ее напору. Тем более тексты она выдавала такие, что не оторвешься. Переписывала по нескольку раз, бывало, додумав что-то, снимала очерк из номера, чтобы еще раз пройтись по тексту. Можно, пожалуй, сказать, что выстраивала невиданный в советской журналистике жанр, который сегодня назвали бы проповедью.
Как раз в это время произошла ее встреча с Валерией Дмитриевной Пришвиной, которая привела ее, комсомолку, советскую журналистку, к вере в Бога. Проходя путь собственного духовного поиска, Лидия транслировала его и на читательскую аудиторию, которой явно не хватало эмпатии в общественных отношениях. «Комсомольская правда», наверное, единственная из советских газет этим свойством обладала, люди нередко обращались к газете как к духовнику. Читая в своем отделе писем ежедневно десятки человеческих исповедей, Графова уловила эту потребность людей, как и потребность найти в журналисте не только объективного судию, но и такого же живого и раздираемого противоречиями человека, каким были они сами. «Наедине с собой» - это был ее ответ на такую потребность.
1995 год. Лидия Графова, председатель «Форума переселенческих организаций», в Чечне, в Грозном с гуманитарной миссией помощи гражданскому населению.

Итогом 25-летней деятельности «Форума...» стала книга Лидии Графовой «Разнесенные ветром».
Напряжение доброты
Естественным для Графовой стал и следующий шаг: переход к правозащитной деятельности. Сопряжение ее обостренной совести с чьей-то драмой униженности и беззащитности не могло не вызвать искры активного поступка с ее стороны. Потому что только такой поступок мог быть признан ею нравственным. Вот что вспоминает она о том, как в ее журналистском лексиконе появилось слово «борьба».
«История началась с письма молодого инвалида из Ново-Московска Тульской области. Он жил в интернате среди стариков и настойчиво добивался создания специализированного Дома инвалидов для молодых. Я к нему поехала. Это был человек без ног. Казалось, у него отсутствовала нижняя половина туловища, только мощные плечи, сильные руки и гордо сидящая на плечах красивая голова. Он передвигался на небольшой платформе, опираясь на пол руками. Как не странно, он не вызывал ни тени жалости. Говорил ярко и убедительно, подробно излагал какие-то свои научные проекты, которые невозможно реализовать, когда он один среди немощных стариков. Он уже завязал переписку с молодыми инвалидами из разных городов. Неуместность его пребывания в этом интернате была очевидна. Он заразил меня своей идеей. Я чувствовала себя обязанной помочь ему и другим молодым инвалидам. Статьи в «Комсомольской правде», хождения по чиновным кабинетам… Ничего, конечно, мы не добились. Но стало понятно, что за права нужно бороться, их надо отстаивать и защищать».
И со всем пылом и энергией свой деятельной натуры Лидия устремилась в эту сторону. Она пишет в своей биографии: «В школе была отличницей, выбирали председателем совета отряда, а, кажется, в девятом классе – председателем совета дружины всей школы. Это верховодство отложило отпечаток на характер, от чего страдает моя семья. Внуки говорят: «Ты нас напрягаешь своей добротой».
Теперь ее доброта обрела смысл и самостоятельный социальный статус. Постепенно, от ситуации к ситуации, Графова становилась серьезным общественным деятелем и влиятельной политической фигурой. Работая уже в «Литературной газете» она опубликовала несколько статей об анонимках. В советской практике работа с письмами и жалобами имела культовый характер, каждое обращение требовало рассмотрения, ответа по существу и принятия мер. Чем и пользовались интриганы и анонимные доносчики. И вот невероятный успех: ЦК КПСС после статей Графовой принял Постановление о запрете рассматривать подметные письма и другое – о наказании чиновников, мстящих за критику.
А потом в ее жизни появилась тема миграции. Тут снова слово самой Лидии.
«Заболела я миграцией почти случайно. Редактор поручил написать информацию о палаточном лагере, который разбили у стен Кремля армяне, приехавшие бороться за возвращение им Карабаха. А в январе 1990 года в Москву на санитарных поездах и самолетах привезли армян, пострадавших в бакинских погромах. Я, как и многие москвичи, понесла продукты и вещи в Армянское посольство, где прямо на полу бывшего Лазаревского особняка лежали раненые старики и дети – те, кому не хватило места в гостиницах и подмосковных пансионатах. Одна статья о беженцах, вторая, третья… Ничего не менялось. Тогда я поняла, что государство просто не в состоянии реально решать судьбы этих, потерявших кров людей. В марте была зарегистрирована первая в СССР общественная организация помощи беженцам – комитет «Гражданское содействие», где я стала сопредседателем.
В 1993 году, когда после распада Союза в Россию хлынули русские и русскоязычные мигранты, был создан Координационный совет помощи беженцам и вынужденным переселенцам. На страницах «ЛГ» я вела рубрику «Дети России». Это была целая полоса, разделенная на две части: «Кто хочет вернуться в Россию?» и «Кто может принять переселенцев?». Мигранты знакомились через газету, стали собираться в общины. В 1996 году возник «Форум переселенческих организаций». Он никем специально не организовывался, он просто родился. В соответствии с требованиями времени. Мне довелось возглавить это движение. Началось строительство компактных поселений силами переселенцев. «Форум» помогал открывать мини-предприятия: мельницы, пекарни, различные мастерские.
Естественным для Графовой стал и следующий шаг: переход к правозащитной деятельности. Сопряжение ее обостренной совести с чьей-то драмой униженности и беззащитности не могло не вызвать искры активного поступка с ее стороны. Потому что только такой поступок мог быть признан ею нравственным. Вот что вспоминает она о том, как в ее журналистском лексиконе появилось слово «борьба».
«История началась с письма молодого инвалида из Ново-Московска Тульской области. Он жил в интернате среди стариков и настойчиво добивался создания специализированного Дома инвалидов для молодых. Я к нему поехала. Это был человек без ног. Казалось, у него отсутствовала нижняя половина туловища, только мощные плечи, сильные руки и гордо сидящая на плечах красивая голова. Он передвигался на небольшой платформе, опираясь на пол руками. Как не странно, он не вызывал ни тени жалости. Говорил ярко и убедительно, подробно излагал какие-то свои научные проекты, которые невозможно реализовать, когда он один среди немощных стариков. Он уже завязал переписку с молодыми инвалидами из разных городов. Неуместность его пребывания в этом интернате была очевидна. Он заразил меня своей идеей. Я чувствовала себя обязанной помочь ему и другим молодым инвалидам. Статьи в «Комсомольской правде», хождения по чиновным кабинетам… Ничего, конечно, мы не добились. Но стало понятно, что за права нужно бороться, их надо отстаивать и защищать».
И со всем пылом и энергией свой деятельной натуры Лидия устремилась в эту сторону. Она пишет в своей биографии: «В школе была отличницей, выбирали председателем совета отряда, а, кажется, в девятом классе – председателем совета дружины всей школы. Это верховодство отложило отпечаток на характер, от чего страдает моя семья. Внуки говорят: «Ты нас напрягаешь своей добротой».
Теперь ее доброта обрела смысл и самостоятельный социальный статус. Постепенно, от ситуации к ситуации, Графова становилась серьезным общественным деятелем и влиятельной политической фигурой. Работая уже в «Литературной газете» она опубликовала несколько статей об анонимках. В советской практике работа с письмами и жалобами имела культовый характер, каждое обращение требовало рассмотрения, ответа по существу и принятия мер. Чем и пользовались интриганы и анонимные доносчики. И вот невероятный успех: ЦК КПСС после статей Графовой принял Постановление о запрете рассматривать подметные письма и другое – о наказании чиновников, мстящих за критику.
А потом в ее жизни появилась тема миграции. Тут снова слово самой Лидии.
«Заболела я миграцией почти случайно. Редактор поручил написать информацию о палаточном лагере, который разбили у стен Кремля армяне, приехавшие бороться за возвращение им Карабаха. А в январе 1990 года в Москву на санитарных поездах и самолетах привезли армян, пострадавших в бакинских погромах. Я, как и многие москвичи, понесла продукты и вещи в Армянское посольство, где прямо на полу бывшего Лазаревского особняка лежали раненые старики и дети – те, кому не хватило места в гостиницах и подмосковных пансионатах. Одна статья о беженцах, вторая, третья… Ничего не менялось. Тогда я поняла, что государство просто не в состоянии реально решать судьбы этих, потерявших кров людей. В марте была зарегистрирована первая в СССР общественная организация помощи беженцам – комитет «Гражданское содействие», где я стала сопредседателем.
В 1993 году, когда после распада Союза в Россию хлынули русские и русскоязычные мигранты, был создан Координационный совет помощи беженцам и вынужденным переселенцам. На страницах «ЛГ» я вела рубрику «Дети России». Это была целая полоса, разделенная на две части: «Кто хочет вернуться в Россию?» и «Кто может принять переселенцев?». Мигранты знакомились через газету, стали собираться в общины. В 1996 году возник «Форум переселенческих организаций». Он никем специально не организовывался, он просто родился. В соответствии с требованиями времени. Мне довелось возглавить это движение. Началось строительство компактных поселений силами переселенцев. «Форум» помогал открывать мини-предприятия: мельницы, пекарни, различные мастерские.

«Форум переселенческих организаций» - любимое детище Лидии Графовой. Здесь она среди тех, кто приехав в Россию с постсоветского пространства, сумел крепко врасти в нее и занять достойное положение.
Семь раз во время чеченской войны группа «Форума…» выезжала с благотворительной акцией «Из рук в руки» к беженцам в разрушенный Грозный и в палаточные лагеря Ингушетии и Дагестана. Когда произошла страшная трагедия в Беслане, мы в течение двух лет ездили в этот маленький город великой (вселенской!) скорби.Нашей целью было помочь обезумевшим от горя людям понять, что жертвами всех межнациональных конфликтов становятся совершенно невинные люди. Довелось помогать созданию там общественных организаций: сначала «Учком», потом «Матери Беслана» и, наконец, «Голос Беслана».
В 2021 году «Форуму» исполняется 25 лет. И все эти годы (чеиверть века!) наше многолюдное пересеоенческое братство (267 организаций, созданных мигрантами в 53 регионах России) доказывало не словами, а конкретными делами, что мигранты – не обуза, а благо для нашей огромной страны. Особенно нас волнует судьба стремительно обезлюдевающего Дальнего Востока. В проектах, которые в последние годы реализует «Форум» по президентским грантам, всегда присутствует «дальневосточный вектор». Наш пилоьный регион – Амурская область, мы осуществляем правовое шефство над поселком староверов вблизи города Свободного. Суть наших проектов хорошо передают их названия. Вот некоторые из них: «Собирание народа в России», «В защиту «понаехавших», «Полюби соотечественника, Родина!» и, наконец, – «Право на Родину».
В 2021 году «Форуму» исполняется 25 лет. И все эти годы (чеиверть века!) наше многолюдное пересеоенческое братство (267 организаций, созданных мигрантами в 53 регионах России) доказывало не словами, а конкретными делами, что мигранты – не обуза, а благо для нашей огромной страны. Особенно нас волнует судьба стремительно обезлюдевающего Дальнего Востока. В проектах, которые в последние годы реализует «Форум» по президентским грантам, всегда присутствует «дальневосточный вектор». Наш пилоьный регион – Амурская область, мы осуществляем правовое шефство над поселком староверов вблизи города Свободного. Суть наших проектов хорошо передают их названия. Вот некоторые из них: «Собирание народа в России», «В защиту «понаехавших», «Полюби соотечественника, Родина!» и, наконец, – «Право на Родину».

Опять кому-то нужна помощь, защита, совет, рекомендация. И не важно, что в эту минуту Лидия Ивановна Графова далеко в таежном поселке на Дальнем Востоке, где у нее тоже дела.
Фото из личного архива Лидии Графовой
Фото из личного архива Лидии Графовой
Служение милосердию, доброте, совести и справедливости, защите гражданских прав и человеческого достоинства, служение родом из «Комсомолки», в истории которой именно Графовой принадлежит Особая роль первооткрывателя темы, и сегодня, спустя шесть десятилетий, продолжается в ее жизни. Известная журналистка и общественный деятель Лидия Графова, удостоенная всех высших профессиональных званий, стала и единственной в истории «Комсомольской правды», кто достиг зачисления в номинанты на Нобелевскую премию мира - за свою правозащитную деятельность. А начиналось все с ночного полета над крышами с брутальной девушкой Таней, которая хотела только казаться. В отличие от автора очерка о ней, которая всегда выбирала позицию БЫТ!Ь! Потому что для нее гуманизм никогда не был абстрактным, а всегда был чьей-то конкретной судьбой.

О легендах «Комсомольской правды»
КАК БОЧАРОВ СЛАГАЛ СВОЮ ОДИССЕЮ И ПРОВЕРЯЛ ПРОЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА


ХРОНИКА ДОЛГОГО СТАРТА
Геннадий Бочаров занял самые высокие позиции в журналистике, давно стал классиком, признан в мировом рейтинге эссеистов и включен в ряд самых крупных отечественных очеркистов вслед за Короленко; его документальная книга об афганской войне "Русская рулетка" стала в свое время мировым бестселлером, а общий тираж его книг, изданных на основных языках планеты, перевалил за полтора миллиона. Он пил чай с вдовой Эрнеста Хэмингуэйя м иссис Мэри в ее квартире в Нью-Йорке и с Габриэлем Гарсиа Маркесом – и не только чай - в своей квартире в Москве. Он вел беседы и публиковал их с президентом Фонда Рокфеллера Петером Голдмарком, признанным мудрецом ХХ столетия Адином Штейнзальцем, автором комментированного перевода Вавилонского Талмуда на современные языки. (Встречался с классиком мировой музыкальной культуры композитором Микисом Теодоракисом ("Грек Зорге"). Более двадцати лет был членом правления Международного фонда авиационной безопасноости и находился в постоянном контакте с мировой авиационной элитой. И пр., пр., пр. Он и внешне этакий лорд: всегда элегантен, подтянут, улыбчив, респектабелен, вежлив. Есть, есть что-то в нем ненашенское, западное… Даже приросшее к нему неофициальне имя Гек тоже всегда ассоциировалось не с гайдаровским пионерским героем, а опять же с кем-то с той стороны, где живут Билли и Гарри... Такой вот аристократический имидж он создал себе сам. И все безоговорочно этому образу верят.
Геннадий Бочаров занял самые высокие позиции в журналистике, давно стал классиком, признан в мировом рейтинге эссеистов и включен в ряд самых крупных отечественных очеркистов вслед за Короленко; его документальная книга об афганской войне "Русская рулетка" стала в свое время мировым бестселлером, а общий тираж его книг, изданных на основных языках планеты, перевалил за полтора миллиона. Он пил чай с вдовой Эрнеста Хэмингуэйя м иссис Мэри в ее квартире в Нью-Йорке и с Габриэлем Гарсиа Маркесом – и не только чай - в своей квартире в Москве. Он вел беседы и публиковал их с президентом Фонда Рокфеллера Петером Голдмарком, признанным мудрецом ХХ столетия Адином Штейнзальцем, автором комментированного перевода Вавилонского Талмуда на современные языки. (Встречался с классиком мировой музыкальной культуры композитором Микисом Теодоракисом ("Грек Зорге"). Более двадцати лет был членом правления Международного фонда авиационной безопасноости и находился в постоянном контакте с мировой авиационной элитой. И пр., пр., пр. Он и внешне этакий лорд: всегда элегантен, подтянут, улыбчив, респектабелен, вежлив. Есть, есть что-то в нем ненашенское, западное… Даже приросшее к нему неофициальне имя Гек тоже всегда ассоциировалось не с гайдаровским пионерским героем, а опять же с кем-то с той стороны, где живут Билли и Гарри... Такой вот аристократический имидж он создал себе сам. И все безоговорочно этому образу верят.

Геннадий Бочаров поднимался в журналистику из шахтерского забоя.
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
А, между тем, Геннадий Бочаров поднимался в журналистику из шахтерского забоя. В редакционный штат впервые был зачислен в 26 лет; заведовать сельхозотделом районной газеты. Родившись в селе Духовское возле озера Ханки на Дальнем Востоке, переехав с родителями в Донбасс в поселок «Шахта «Красная звезда», который по причине потери первоначальной метрики был позднее записан местом его рождения, Гена там закончил школу, сюда вернулся на три года проходчиком силикозно-опасного забоя, бросив после третьего курса Харьковский автодорожный институт, отсюда подался монтажником «Автотрансстроя» обратно в Харьков, где успел даже побыть воспитателем двух женских общежитий и где нашел на всю жизнь жену Татьяну. И так, крутясь почти десять лет по первой спирали своей будущей звездной судьбы, продираясь из шахтерских чумазых низов к светлому писательскому ремеслу через внештатное сотрудничество с областной молодежкой на украинском языке, тогда как свой слог шел на русском, причем особенном, неформатном, как сказали бы теперь, Бочаров и дотянул до возраста, в котором другие занимали уже посты главредов, а ему, рабочему парню без законченного высшего, тем более специального образования, редакционные двери были закрыты. Ему помог тогда Владимир Токмань, хороший друг , в то время работник харьковского обкома комсомола. Он по своим каналам устроил в поселок Дергачи, в районку.Так в трудовой книжке Гека, где первой записью была «проходчик», появилась и та, что давала пропуск в журналистику.
И еще шесть лет ушло на движение по второму витку, который и привел его в «Комсомолку».Он снова все бросил, снова начал с нуля, но уже уверенно и осмысленно: уехал в другой шахтерский край – в Караганду, в поселок Шахан, бывший карлаг, где снова взялся за лом и лопату.. И внештатно писал для газет. Писал не только профессионально, но заметно и ярко. Его первая – 1960 года, еще и-под Харькова - публикация в «Комсомолке» «Самолет не вернулся в 43 -м» стала поводом для карагандинского телевидения сделать Бочарову предложение и зачислить в штат. На одну из съемок прилетел из Алма-Аты главред «Ленинской смены», республиканской казахской молодежки, Юрий Зинюк, уже знавший Гека по его корреспонденциям на страницах своей газеты. Так Бочаров переместился в столицу Казахстана, прогремев вскоре исторической сенсацией о фашистском десанте в Казахстане. Теперь его талантливое перо пробивало ему дорогу не хуже забойного молотка. Пока не пробило вход в «Комсомольскую правду», куда он, словно Христос вступил как на Голгофу в 33 года. И втащил-таки свой неподъемный крест желания выразить себя на эту вершину, с которой начался в очередной раз его полет выше, и выше, и выше.

Начинающий репортер Геннадий Бочаров делает первый исторический снимок в ходе поездки главы СССР Никиты Хрущева по Казахстану.
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
НОВЕЛЛА О ПОКИНУТЫХ ОСТРОВАХ
Его талант был теперь общепризнан. Но… Мало ли талантов в журналистике? Чем же брал бочаровский текст? Что такого в нем было необычного, безусловного, самоутверждающего, что заставляло разных людей, прочтя, запоминать строки навсегда? В книге воспоминаний о «Комсомолке» 70-х «Больше, чем газета» есть такое, например, свидетельство Валентины Пономаревой: «Вот у Гека Бочарова во вьетнамском репортаже старик «с коричневой, как высохший табачный лист» рукой. Такое врубается в память навсегда». Да, метафорическое мышление было фирменным стилем той газеты, и Гек со своей способностью видеть мир метафорично и со своей специально развиваемой способностью писать «как в «Комсомолке» совпал с этим стилем абсолютно, стал его носителем и очень скоро лидирующим производителем.
Вот еще вопоминание об этом коллеги, журналиста-международника Александра Кармена: «Целые поколения читателей «Комсомолки» воспитывались на очерках любимого мной и неизменно почитаемого Геннадия Бочарова о людях-героях. А его репортажи после поездок в Юго-Восточную Азию, в Анголу… Какой сочный язык, какие метафоры! Сколько раз во время дежурств по международной полосе, стоя у талера, я, будучи околдован его письмом, отбивался от назойливых редакторов и девушек из бюро проверки, пытавшихся изменить его восхитительные, запоминающиеся на всю жизнь образы, смягчить его неординарный, порой нарушающий все каноны журналистики, но неизменно яркий стиль».
И все же не только слово было его отличительным знаком.
Его талант был теперь общепризнан. Но… Мало ли талантов в журналистике? Чем же брал бочаровский текст? Что такого в нем было необычного, безусловного, самоутверждающего, что заставляло разных людей, прочтя, запоминать строки навсегда? В книге воспоминаний о «Комсомолке» 70-х «Больше, чем газета» есть такое, например, свидетельство Валентины Пономаревой: «Вот у Гека Бочарова во вьетнамском репортаже старик «с коричневой, как высохший табачный лист» рукой. Такое врубается в память навсегда». Да, метафорическое мышление было фирменным стилем той газеты, и Гек со своей способностью видеть мир метафорично и со своей специально развиваемой способностью писать «как в «Комсомолке» совпал с этим стилем абсолютно, стал его носителем и очень скоро лидирующим производителем.
Вот еще вопоминание об этом коллеги, журналиста-международника Александра Кармена: «Целые поколения читателей «Комсомолки» воспитывались на очерках любимого мной и неизменно почитаемого Геннадия Бочарова о людях-героях. А его репортажи после поездок в Юго-Восточную Азию, в Анголу… Какой сочный язык, какие метафоры! Сколько раз во время дежурств по международной полосе, стоя у талера, я, будучи околдован его письмом, отбивался от назойливых редакторов и девушек из бюро проверки, пытавшихся изменить его восхитительные, запоминающиеся на всю жизнь образы, смягчить его неординарный, порой нарушающий все каноны журналистики, но неизменно яркий стиль».
И все же не только слово было его отличительным знаком.

Улица Правды, 24, шестой этаж. Здесь больше 70 лет работала "Комсомольская правда". В знаменитом холле у стеллы погибшим в Отечественную войну журналистам КП, шел обмен новостями. На снимке стоят Владислав Фронин (слева) и Юрий Щекочихин, сидит Геннадий Бочаров.
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
В сентябре 2020 года, на его юбилей, Юрий Лепский, коллега и друг Бочарова по «Комсомольской правде», первый зам.главреда «Российской газеты», опубликовал эссе-поздравление, которое очень точно и тонко передает ощущение бочаровского феномена. Вот этот текст.
"ОСТРОВ БОЧАРОВ.
Блистательному репортеру и писателю Геннадию Бочарову исполнилось 85. В случае Бочарорва это скорее новость, чем старость.
Много лет назад однажды утром я открыл номер "Комсомольской правды" и остолбенел, прочитав эту заметку. Так в ту давнюю пору не писал никто. Во-первых, заголовок. Он был трехстрочным и начинался с местоимения "Я"(«Я сел в шлюпку и уплыл оттуда навсегда»). Любой редактор в любой другой газете сказал бы вам, что это нескромно. Любой редактор, в любой другой газете. Вам. Но не главный редактор "Комсомолки" и не Геннадию Бочарову.
Заголовок содержал еще одно удивительное качество: он сочетал предельно бытовое действие с категорией вечности. Секундное дело - "сел в шлюпку и уплыл оттуда" с пожизненным "навсегда". Это завораживало. Последующее чтение текста приводило вас в состояние нарастающего волнения.
"Но я чувствовал остров рядом и ощущал перестрелку в сердце..." "Память складывала крылья и камнем летела вниз..." "Утром над морем показалась узкая планка рассвета. По ней двигались легкие тени прожитых когда-то на острове дней..." "Над головами - высокий, гулкий купол жизни..." "Вечные стрелки осени возвращают птиц к знакомым местам..." "А как быть нам?.. Нам - и восемнадцатилетним и сорокалетним - остается кое-что потруднее... Наверное, нам остается рвать золотую паутину миражей и воспоминаний и идти к новым островам, пока есть острова и пока есть силы."... Так не писал тогда никто. Так и сегодня не может писать никто.
"ОСТРОВ БОЧАРОВ.
Блистательному репортеру и писателю Геннадию Бочарову исполнилось 85. В случае Бочарорва это скорее новость, чем старость.
Много лет назад однажды утром я открыл номер "Комсомольской правды" и остолбенел, прочитав эту заметку. Так в ту давнюю пору не писал никто. Во-первых, заголовок. Он был трехстрочным и начинался с местоимения "Я"(«Я сел в шлюпку и уплыл оттуда навсегда»). Любой редактор в любой другой газете сказал бы вам, что это нескромно. Любой редактор, в любой другой газете. Вам. Но не главный редактор "Комсомолки" и не Геннадию Бочарову.
Заголовок содержал еще одно удивительное качество: он сочетал предельно бытовое действие с категорией вечности. Секундное дело - "сел в шлюпку и уплыл оттуда" с пожизненным "навсегда". Это завораживало. Последующее чтение текста приводило вас в состояние нарастающего волнения.
"Но я чувствовал остров рядом и ощущал перестрелку в сердце..." "Память складывала крылья и камнем летела вниз..." "Утром над морем показалась узкая планка рассвета. По ней двигались легкие тени прожитых когда-то на острове дней..." "Над головами - высокий, гулкий купол жизни..." "Вечные стрелки осени возвращают птиц к знакомым местам..." "А как быть нам?.. Нам - и восемнадцатилетним и сорокалетним - остается кое-что потруднее... Наверное, нам остается рвать золотую паутину миражей и воспоминаний и идти к новым островам, пока есть острова и пока есть силы."... Так не писал тогда никто. Так и сегодня не может писать никто.

С лауреатом Нобелевской премии по литературе, классиком XX века Габриелем Гарсия Маркесом.
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
О чем эта заметка? О том, как на далеком острове Барса-Кельмес в Аральском море родился куланенок, о том, как с острова на Большую землю отправляли пять коров.О том, как корреспондент, попавший на этот остров, почему-то был там счастлив? О том, как его всю жизнь тянуло вернуться туда? О том, как многажды он пролетал над островом, и однажды даже поплыл туда на корабле. Но не доплыл. Остров ускользал от него, как заговоренный. О том, что самый мужественный и трудный поступок в жизни человека - не возвращениетуда, где было хорошо, а открытие новых островов, движение вперед, пока на эти открытия и это движение есть силы? Да, да, да. Об этом. По существу, Геннадий Бочаров публично совершал трудный выбор в своей жизни, он впервые утверждал миропонимание нового Одиссея, который не возвращается на Итаку.Это был выбор свободного человекав стране неснесенных вышек вертухаев, колючей проволоки ГУЛАГа и партийного диктата.
Это маленькое эссе способно было изменить жизнь внимательного читателя, поскольку генерировало для него силу и свободу автора.Этой силы, свободы и таланта Бочарову хватило намного и на многое. Он и по сей день остается непревзойденным репортером Отечества".
МИРОПОНИМАНИЕ. Это и есть ключевое слово относительно того, что сделало Гека легендой. Он очень долго шел в журналистику. Но по пути набрал такой собственный и проверенный опыт об устройстве мира и содержании и смысле жизни, который позволил ощутить его непререкаемым и позволял поэтому перевести в авторское Я без всякого лишнего стеснения. Вплоть до того, что можно задать новый курс Одиссею. Это то авторское Я, которое не от самомнения, а от глубины своего взгляда. Ему было что сказать. И ему было интересно искать свои метафорические формулы для происходящего и описываемого.
Это маленькое эссе способно было изменить жизнь внимательного читателя, поскольку генерировало для него силу и свободу автора.Этой силы, свободы и таланта Бочарову хватило намного и на многое. Он и по сей день остается непревзойденным репортером Отечества".
МИРОПОНИМАНИЕ. Это и есть ключевое слово относительно того, что сделало Гека легендой. Он очень долго шел в журналистику. Но по пути набрал такой собственный и проверенный опыт об устройстве мира и содержании и смысле жизни, который позволил ощутить его непререкаемым и позволял поэтому перевести в авторское Я без всякого лишнего стеснения. Вплоть до того, что можно задать новый курс Одиссею. Это то авторское Я, которое не от самомнения, а от глубины своего взгляда. Ему было что сказать. И ему было интересно искать свои метафорические формулы для происходящего и описываемого.

2000 год, редакция газеты «Известия». Политический обозреватель при главном редакторе «Известий» Геннадий Бочаров с другом и коллегой по «Комсомольской правде», шеф-редактором «Известий» Александром Куприяновым (справа).
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
САГА О РОЖДЕНИИ ГЕРОЯ
В историю шестиэтажной журналистики 60-70-х Гек Бочаров вошел не только своим миропониманием и своим стилем, но и своим жанром. Его тянуло в исследование человеческой стойкости в экстремальных ситуациях, когда эта стойкость, крепость, выносливость, всплывающие резервы организма и воли отдельной личности превышали обычную норму. Он так однажды сформулировал эту загадку: "Читая Хемингуэя, думаешь об особой хрупкости человеческого рода. И о величайшей прочности отдельного человека". Хеменгуэй был для него непререкаем как раз и тем, что являл такой пример необычайной собственной прочности.
А личный любимый жанр Бочарова можно назвать ОЧЕРКОМ О РОЖДЕНИИ ГЕРОЯ. Потому что только герой способен удержать себя на сломе. Поэтому он и герой, а его прочность становится олицетворением подвига.
В советской журналистике героический очерк был, конечно, основополагающим, поскольку абсолютно соответствовал задаче коммунистического воспитания и пропаганды. Шахтер Алексей Стаханов и трактористка Паша Ангелина, пограничник Никита Карацупа и летчик Валерий Чкалов, герои Великой Отечественной Зоя Космодемьянская и молодогвардейцы… Бочаров искал и находил уже новых героев, открывая тем самым и новые грани такого жанра. На смену героям труда и войны он привел на страницы "Комсомолки" подвиг обыденности, когда она достигает почему-либо момента взрыва.
В историю шестиэтажной журналистики 60-70-х Гек Бочаров вошел не только своим миропониманием и своим стилем, но и своим жанром. Его тянуло в исследование человеческой стойкости в экстремальных ситуациях, когда эта стойкость, крепость, выносливость, всплывающие резервы организма и воли отдельной личности превышали обычную норму. Он так однажды сформулировал эту загадку: "Читая Хемингуэя, думаешь об особой хрупкости человеческого рода. И о величайшей прочности отдельного человека". Хеменгуэй был для него непререкаем как раз и тем, что являл такой пример необычайной собственной прочности.
А личный любимый жанр Бочарова можно назвать ОЧЕРКОМ О РОЖДЕНИИ ГЕРОЯ. Потому что только герой способен удержать себя на сломе. Поэтому он и герой, а его прочность становится олицетворением подвига.
В советской журналистике героический очерк был, конечно, основополагающим, поскольку абсолютно соответствовал задаче коммунистического воспитания и пропаганды. Шахтер Алексей Стаханов и трактористка Паша Ангелина, пограничник Никита Карацупа и летчик Валерий Чкалов, герои Великой Отечественной Зоя Космодемьянская и молодогвардейцы… Бочаров искал и находил уже новых героев, открывая тем самым и новые грани такого жанра. На смену героям труда и войны он привел на страницы "Комсомолки" подвиг обыденности, когда она достигает почему-либо момента взрыва.

Советский пловец, чемпион мира Шеварш Карапетян в 1976 году спас из упавшего в водохранилище троллейбуса 20 тонущих людей. Геннадий Бочаров представляет героя своего очерка спустя четверть века на встрече с читателями.
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
Троллейбус срывается с плотины, падает в водохранилище, прохожий бросается спасать тонущих Им оказывается советский пловец, чемпион мира Шаварш Карапетян, вытащивший из воды боьше двадцати пассажиров. Военный летчик Юрий Козловский, реактивноый истребитель которого падает в катастрофе в забайкальскую тайгу, много дней выползает с перебитыми ногами к людям; Бочаров делает его имволом, назвав очерк "Непобежденный". Пожарный инспектор не подписывает акт приемки цеха без средств защиты от огня, несмотря на прямые угрозы убийства. Шахтер оказывается под обвалом и пробивается оттуда несколько суток навстречу спасателям.Одна из первых книг очерков Бочарова так и называлась – красноречиво и антипафосно: "Что человек может". Может и обязательно сможет, когда обстоятельства заставят…

Но и не дав прямого ответа, Бочаров всеми своими текстами и заложенными в них формулами давно такой ответ нашел. Стоит взять наугад несколько его фраз, чтобы убедиться в этом. Например, такие. "Тот, кто держится до конца, проигрывает последним. Но и проиграв, человек не должен терять достоинства, потому что только достоинствое способно облегчить проигрыш" .Держится до конца в чем? В бою, в схватке, в противостоянии, в сопротивлении. Там, где проигрыш неминуем, но его тоже надо принять с достоинством. По-мужски. Авторский опыт Бочарова подчеркнуто мужской, опыт человека, прошедшего не одну схватку. Чкловека, выросшего в прочной мужской среде поселка шахты "Красная звезда". Здесь был задан вектор его мускулинности, переполняющей и его очерки.
Скорей всего, эта воплощенная в нем порода мужской силы толкала его и по миру и по всем возникающим "горячим точкам" планеты. Афганистан, Никарагуа, Лаос, Ангола, Колумбия, Аляска, Гаваи, Мексика, Канада, Куба, Вьетнам, Англия, Франция, Япония, Германия... Каждая поездка – репортажи, очерки, путевые заметки, переполненные феерическими подробностями. И всегда репортажи и очерки о возможнростях человека даже в смертельной ситуации. Когда и смерть не ломает достоинства.
Скорей всего, эта воплощенная в нем порода мужской силы толкала его и по миру и по всем возникающим "горячим точкам" планеты. Афганистан, Никарагуа, Лаос, Ангола, Колумбия, Аляска, Гаваи, Мексика, Канада, Куба, Вьетнам, Англия, Франция, Япония, Германия... Каждая поездка – репортажи, очерки, путевые заметки, переполненные феерическими подробностями. И всегда репортажи и очерки о возможнростях человека даже в смертельной ситуации. Когда и смерть не ломает достоинства.

1983 год, Афганистан. Спецкор «Литературной газеты» Геннадий Бочаров на бетеэре c собкором ЦТ СССР в Афганистане Михаилом Лещинским.
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
На вопрос, почему Гек а привлекла именно такая тема, он так и не ответил. Да, разок в юности и сам попал в обвал на шахте "3 бис", где работал в бригаде И вана Кищика, о котором позже тоже написал очерк, после чего бригадир его получил орден Ленина. Две трети бригады за годы ее работы под землей погибли в таких обвалах. Гека судьба уберегла. Но она показала ему цену обыденного труда и достойного поведения в критической ситуации. Сам он по жизни трижды попадал в немыслимо экстремальные передряги: в Афгане, когда его чудом на бэтээре вытащили из захваченного талибами отеля наши десантники; когда при перелете из Колумбии в Нью-Йорк в воздушном пространстве так называемого "Бермудского треугольника" их самолет трижды возвращался с заглохшими двигателями на вынужденную посадку; и когда его ошибочно "поставили" в Скалистых горах в США на слаломную трассу высокой категории и лыжи "Атомик" понесли его, не владеющего слаломом, прямо в пропасть. Справился. Кто-то сверху дал и ему почувствовать, что человек на самом деле может…
Но и не дав прямого ответа, Бочаров всеми своими текстами и заложенными в них формулами давно такой ответ нашел. Стоит взять наугад несколько его фраз, чтобы убедиться в этом. Например, такие. "Тот, кто держится до конца, проигрывает последним. Но и проиграв, человек не должен терять достоинства, потому что только достоинствое способно облегчить проигрыш" .Держится до конца в чем? В бою, в схватке, в противостоянии, в сопротивлении. Там, где проигрыш неминуем, но его тоже надо принять с достоинством. По-мужски. Авторский опыт Бочарова подчеркнуто мужской, опыт человека, прошедшего не одну схватку. Чкловека, выросшего в прочной мужской среде поселка шахты "Красная звезда". Здесь был задан вектор его мускулинности, переполняющей и его очерки.
Скорей всего, эта воплощенная в нем порода мужской силы толкала его и по миру и по всем возникающим "горячим точкам" планеты. Афганистан, Никарагуа, Лаос, Ангола, Колумбия, Аляска, Гаваи, Мексика, Канада, Куба, Вьетнам, Англия, Франция, Япония, Германия... Каждая поездка – репортажи, очерки, путевые заметки, переполненные феерическими подробностями. И всегда репортажи и очерки о возможнростях человека даже в смертельной ситуации. Когда и смерть не ломает достоинства.
Но и не дав прямого ответа, Бочаров всеми своими текстами и заложенными в них формулами давно такой ответ нашел. Стоит взять наугад несколько его фраз, чтобы убедиться в этом. Например, такие. "Тот, кто держится до конца, проигрывает последним. Но и проиграв, человек не должен терять достоинства, потому что только достоинствое способно облегчить проигрыш" .Держится до конца в чем? В бою, в схватке, в противостоянии, в сопротивлении. Там, где проигрыш неминуем, но его тоже надо принять с достоинством. По-мужски. Авторский опыт Бочарова подчеркнуто мужской, опыт человека, прошедшего не одну схватку. Чкловека, выросшего в прочной мужской среде поселка шахты "Красная звезда". Здесь был задан вектор его мускулинности, переполняющей и его очерки.
Скорей всего, эта воплощенная в нем порода мужской силы толкала его и по миру и по всем возникающим "горячим точкам" планеты. Афганистан, Никарагуа, Лаос, Ангола, Колумбия, Аляска, Гаваи, Мексика, Канада, Куба, Вьетнам, Англия, Франция, Япония, Германия... Каждая поездка – репортажи, очерки, путевые заметки, переполненные феерическими подробностями. И всегда репортажи и очерки о возможнростях человека даже в смертельной ситуации. Когда и смерть не ломает достоинства.

Встреча через 25 лет. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Геннадий Бочаров, награжденный боевым орденом Красной Звезды за свою журналистскую работу в Афганистане в 80-е годы, когда там вел действия «ограниченный контингент» советских войск, и командарм 40-й армии, воевавший там и выводивший наши войска после окончания афганской кампании, Герой Советского Союза, губернатор Московской области , генерал-полковник Борис Громов (справа). Борис Всеволодович вручает Геннадию Бочарову Почетный приз Правительства Московской области.
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
Книга Бочарова "Русская рулетка", которая разлетелась по миру и всюду попала в топ-рейтинги, так и не была пропущена цензурой к российскому читателю. Потому что она невыносима для живых участников боевых действий из-за беспощадной мясистости письма о трагедии афганской войны, перемоловшей "ограниченный контингент" советских войск в засекреченный от собственной страны "груз 200". Бочаров называет эту войну, где сам чуть не погиб, самой большой ошибкой Советского Союза.
Это очень правдивая книга… Бочаровская мускулинная правда.
Это очень правдивая книга… Бочаровская мускулинная правда.

ЭПОПЕЯ О НАДЕЖДЕ КУРЧЕНКО
Собкор по Латинской Америке Александр Кармен, с которым Бочаров не раз бороздил страны континента, вспоминал, что Гек писал не о том, что было, как многим очевидцам казалось, в действительности, а о том, как он представлял себе происходящее, составляя его словно пазл из увиденных или не увиденных, но подразумеваемых деталей. Самое парадоксальное, что после прочтения этих репортажей по-другому уже и невозможно было представить. Миллионы читателей воспринимали жизнь по бочаровским лекалам.
Да, он пишет метафорично и ярко, он обладает опытом и миропониманием, он проверяет прочность и героизм человека. Но есть еще вот это: притягательность изложения. Когда не можешь оторваться от рассказа и веришь каждому слову. Мера писательского дара именно в этом. Один расскажет анекдот – и скучно, другой – и давятся смехом.Тут дело в упругости, пружинитости изложения, в его структуре и четком осознании автором, какие клавиши текста какие ноты читательского восприятия извлекут. Гек безупречно владеет этим искусством коммуникации. Он всегда знает, чего ждет от рассказчика читатель.
Возможно, самой притягательной публикацией Бочарова, которая и сделала его имя по-настоящему легендарным, стала эпопея об одном из первых в истории гражданской авиации террористическом акте – захвате маленького – на 46 пассажиров - самолета прибалтийскими бандитами, угнавшими его в Турцию. На этом рейсе был ранен выстрелом в спину командир корабля, истекал кровью его штурман, убита бортпроводница, парализованы угрозой гранатного взрыва люди в салоне.
Это случилось 15 октября 1970 года. Самолет летел из Батуми в Сухуми. Сообщение о захвате пришло от информационных агентсв после посадки самолета по требованию террористов в турецком городе Трабзоне.
Бочарова вызвал главный редактор "Комсомолки" Борис Панкин и сказал, что договорился о его допуске к расслендованию чп на месте с председателем правительственной комиссии, заместителем председателя КГБ. Бочаров, единственный из журналистов страны, вылетел в Сухуми, куда должны были вернуть самолет и пассажиров. Страховали его работу, каждый на своем месте, заведующий отделом информации газеты Виталий Игнатенко и тбилисский собкор КП Теймураз Мамаладзе. Но, конечно, сам Гек в те три дня, которые провел в Сухуме, пока газете не разрешили после всех согласований и цензурных чисток опубликовать 18 октября бочаровский очерк, произвел невероятное по энергичности действие, найдя и представив миру нового национального героя – 19-летнюю стюардессу и комсомолку Надежду Курченко. Надя погибла, но Гек сделал имя ее бессмертным в прямом смысле слова: именем Нади называли улицы и школы, пионерские дружины и даже пассажирский самолет!
Собкор по Латинской Америке Александр Кармен, с которым Бочаров не раз бороздил страны континента, вспоминал, что Гек писал не о том, что было, как многим очевидцам казалось, в действительности, а о том, как он представлял себе происходящее, составляя его словно пазл из увиденных или не увиденных, но подразумеваемых деталей. Самое парадоксальное, что после прочтения этих репортажей по-другому уже и невозможно было представить. Миллионы читателей воспринимали жизнь по бочаровским лекалам.
Да, он пишет метафорично и ярко, он обладает опытом и миропониманием, он проверяет прочность и героизм человека. Но есть еще вот это: притягательность изложения. Когда не можешь оторваться от рассказа и веришь каждому слову. Мера писательского дара именно в этом. Один расскажет анекдот – и скучно, другой – и давятся смехом.Тут дело в упругости, пружинитости изложения, в его структуре и четком осознании автором, какие клавиши текста какие ноты читательского восприятия извлекут. Гек безупречно владеет этим искусством коммуникации. Он всегда знает, чего ждет от рассказчика читатель.
Возможно, самой притягательной публикацией Бочарова, которая и сделала его имя по-настоящему легендарным, стала эпопея об одном из первых в истории гражданской авиации террористическом акте – захвате маленького – на 46 пассажиров - самолета прибалтийскими бандитами, угнавшими его в Турцию. На этом рейсе был ранен выстрелом в спину командир корабля, истекал кровью его штурман, убита бортпроводница, парализованы угрозой гранатного взрыва люди в салоне.
Это случилось 15 октября 1970 года. Самолет летел из Батуми в Сухуми. Сообщение о захвате пришло от информационных агентсв после посадки самолета по требованию террористов в турецком городе Трабзоне.
Бочарова вызвал главный редактор "Комсомолки" Борис Панкин и сказал, что договорился о его допуске к расслендованию чп на месте с председателем правительственной комиссии, заместителем председателя КГБ. Бочаров, единственный из журналистов страны, вылетел в Сухуми, куда должны были вернуть самолет и пассажиров. Страховали его работу, каждый на своем месте, заведующий отделом информации газеты Виталий Игнатенко и тбилисский собкор КП Теймураз Мамаладзе. Но, конечно, сам Гек в те три дня, которые провел в Сухуме, пока газете не разрешили после всех согласований и цензурных чисток опубликовать 18 октября бочаровский очерк, произвел невероятное по энергичности действие, найдя и представив миру нового национального героя – 19-летнюю стюардессу и комсомолку Надежду Курченко. Надя погибла, но Гек сделал имя ее бессмертным в прямом смысле слова: именем Нади называли улицы и школы, пионерские дружины и даже пассажирский самолет!

Вашингтон, Всемирный фонд авиационной безопасности. Президент фонда Стюарт Мэтьюз (слева) и Геннадий Бочаров.
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
Этот беспрецедентный по тем временам подвиг – стюардесса закрыла собой дверь в кабину пилотов – потряс людей не меньше, чем проезд по "закрытому" Советскому Союзу молодого Фиделя Кастро или победа нашей футбольной сборной на Олимпийских играх в Мельбурне. Эхо этого поступка прокатилось по планете как мощное духоподъемное цунами. Такова была энергия журналистского труда Бочарова.
Как же он работал и строил свой рассказ о событии?
Отбор фактуры. Это сотни исписанных страниц блокнотов. Очевидцы, участники угона, специалисты по чрезвычайным ситуациям, по авиапроисшествиям, по международным делам (ведь впервые пришлось и договариваться о возврате угнанных). Бочаров дважды разговаривал из Сухуми и Батуми по правительственной связи с министром гражданской авиации СССР Борисом Павловичем Бугаевым. Гек, единственный, получил у врачей доступ к раненому командиру – на пару минут, но ему хватило.
Поиск героя. Высочайшая профессиональная интуиция спецкора "Комсомолки" сразу выделила из многих фактов тот главный – гибель стюардессы, - который содержал в себе многослойный смысловой набор, способный превратить факт в явление. Были и другие герои , их Гек тоже представил. Например, Зинаида Левина. Которая прорвалась в кабину пилотов сразу после приземления с возгласом "Я врач!", кинулась к штурману с разорванной выстрелом артерией, зажала ее ладонью и держала так до приезда санитарной машины, что спасло штурману жизнь.
Интерпретация подвига. Как вообще поднять поступок до категории подвига, как убедить читателя, что данный поступок – высшее проявление самоотверженности человека, выбора им гибели как оправданного и правильного действия, высшее понимание им целесообразности своей жертвы. Конечно, факт смерти на посту уже способствует такой интерпретации. И все же должно быть что-то потрясающее душу, что-то из области нравственных движений. И Бочаров ищет такое основополагающее движение в поведении и натуре своей героини. Его Надежда не просто гибнет на посту, соблюдая служебную инструкцию. Она защищает своих пилотов и пассажиров, защищает доверенных ей людей. Так мать защищает детей. Это практически рефлекс. Невозможность предательства. Бесстрашие моральной чистоты. Его Надежда приобретает в такой интерпретации почти сакральный смысл, над ней появляется ореол святости, великомученичества. В советской печати таких слов и понятий не было, но в людях ощущение святости неистребимо, они его чувствуют всегда, хотя и называют по-разному.
Струтура, композиция очерка. Они продиктованы воплощением читательского любопытства. Сначала хроника события: что, где, когда и как случилось. Потом интервью с командиром, со спецами. После ожидание в аэропорту Сухуми возвращения пассажиров. Интервью с родственниками членов экипажа, с подругами Надежды Курченко. Прибытие пассажиров и их рассказы. Снова мнение компетентных специалистов. Наконец, прибытие угнанного самолета. Последний взгляд репортера на него: разбитое стекло пилотской кабины, пробоины от 20 пуль. И уже не в тексте, а как бы рядом с ним, отдельной колонкой, справка о террористах: кто такие, откуда, куда, зачем… И это каждый хотел узнать.
Как же он работал и строил свой рассказ о событии?
Отбор фактуры. Это сотни исписанных страниц блокнотов. Очевидцы, участники угона, специалисты по чрезвычайным ситуациям, по авиапроисшествиям, по международным делам (ведь впервые пришлось и договариваться о возврате угнанных). Бочаров дважды разговаривал из Сухуми и Батуми по правительственной связи с министром гражданской авиации СССР Борисом Павловичем Бугаевым. Гек, единственный, получил у врачей доступ к раненому командиру – на пару минут, но ему хватило.
Поиск героя. Высочайшая профессиональная интуиция спецкора "Комсомолки" сразу выделила из многих фактов тот главный – гибель стюардессы, - который содержал в себе многослойный смысловой набор, способный превратить факт в явление. Были и другие герои , их Гек тоже представил. Например, Зинаида Левина. Которая прорвалась в кабину пилотов сразу после приземления с возгласом "Я врач!", кинулась к штурману с разорванной выстрелом артерией, зажала ее ладонью и держала так до приезда санитарной машины, что спасло штурману жизнь.
Интерпретация подвига. Как вообще поднять поступок до категории подвига, как убедить читателя, что данный поступок – высшее проявление самоотверженности человека, выбора им гибели как оправданного и правильного действия, высшее понимание им целесообразности своей жертвы. Конечно, факт смерти на посту уже способствует такой интерпретации. И все же должно быть что-то потрясающее душу, что-то из области нравственных движений. И Бочаров ищет такое основополагающее движение в поведении и натуре своей героини. Его Надежда не просто гибнет на посту, соблюдая служебную инструкцию. Она защищает своих пилотов и пассажиров, защищает доверенных ей людей. Так мать защищает детей. Это практически рефлекс. Невозможность предательства. Бесстрашие моральной чистоты. Его Надежда приобретает в такой интерпретации почти сакральный смысл, над ней появляется ореол святости, великомученичества. В советской печати таких слов и понятий не было, но в людях ощущение святости неистребимо, они его чувствуют всегда, хотя и называют по-разному.
Струтура, композиция очерка. Они продиктованы воплощением читательского любопытства. Сначала хроника события: что, где, когда и как случилось. Потом интервью с командиром, со спецами. После ожидание в аэропорту Сухуми возвращения пассажиров. Интервью с родственниками членов экипажа, с подругами Надежды Курченко. Прибытие пассажиров и их рассказы. Снова мнение компетентных специалистов. Наконец, прибытие угнанного самолета. Последний взгляд репортера на него: разбитое стекло пилотской кабины, пробоины от 20 пуль. И уже не в тексте, а как бы рядом с ним, отдельной колонкой, справка о террористах: кто такие, откуда, куда, зачем… И это каждый хотел узнать.

"Золотая обойма" лучших перьев страны: легендарные мэтры "Комсомольской правды" и российской журналистики Ярослав Голованов (слева), Василий Песков (в центре) и Геннадий Бочаров.
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
Фото из личного архива Геннадия Бочарова.
Трое суток профессиональной работы, и очерк о подвиге стюардессы, не стареющий уже 50 лет.
Очерк из золотой обоймы "Комсомольской правды". Изданная вслед книга "Смерть стюардессы" разлетелась стотысячным тиражом за одну неделю.
В заключение можно привести также точные слова главного редактора «Комсомолки» 60-70-х Бориса Панкина, который брал когда-то Бочарова на работу в газету, отправил на первое звездное задание, публиковал его героические очерки и феерические репортажи из разных стран. Поздравляя Гека с очередным юбилеем, он наисал ему: «Гена, вместо поздравления восклицаю:
- Семьдесят пять лет? Нет!
Уж больно не вяжутся с твоим обликом, темпераментом, эмоциями эти цифры. Нет, годы над тобой не властны. Наверное, это выбранная тобой стезя, быть самым первым, самым точным, самым участливым там, где случилось что-то чрезвычайное, счастливое или трагическое, не отпускает, держит в строю, рождает новые репортажи, новые книги, приводит новых друзей и не отпускает старых. Вот и оставайся таким, каким мы тебя знали в прошлом веке и так же любим и ценим в нынешнем. Остальное приложится.
Твой Борис Панкин»
Очерк из золотой обоймы "Комсомольской правды". Изданная вслед книга "Смерть стюардессы" разлетелась стотысячным тиражом за одну неделю.
В заключение можно привести также точные слова главного редактора «Комсомолки» 60-70-х Бориса Панкина, который брал когда-то Бочарова на работу в газету, отправил на первое звездное задание, публиковал его героические очерки и феерические репортажи из разных стран. Поздравляя Гека с очередным юбилеем, он наисал ему: «Гена, вместо поздравления восклицаю:
- Семьдесят пять лет? Нет!
Уж больно не вяжутся с твоим обликом, темпераментом, эмоциями эти цифры. Нет, годы над тобой не властны. Наверное, это выбранная тобой стезя, быть самым первым, самым точным, самым участливым там, где случилось что-то чрезвычайное, счастливое или трагическое, не отпускает, держит в строю, рождает новые репортажи, новые книги, приводит новых друзей и не отпускает старых. Вот и оставайся таким, каким мы тебя знали в прошлом веке и так же любим и ценим в нынешнем. Остальное приложится.
Твой Борис Панкин»

И сегодня, когда Бочаров отметил 85-летие, он неутомимо пишет свои шедевры о прочности человека. И сам эту прочность являет.
Фото Юрия Лепского
Фото Юрия Лепского




Наша справка
Геннадий Николаевич Бочаров. Родился 25 сентября (Международный день журналистики) 1935 года. Трудовой путь начинал проходчиком на шахте «3-бис» Чистяковского района Донецкой области. С конца 50-х годов – в журналистике, начинал с внештатного сотрудничества, потом работал в районной газете, на телевидении в Караганде, заведующим отделом казахстанской республиканской молодежной газеты «Ленинская смена». 17 лет (1967 -84) в «Комсомольbской правде»: спецкор, и.о. заведующего отделом информации. Затем - обозреватель «Литературной газеты» (1984 -94), политический обозреватель при генеральном директоре ТАСС (1994 -97); политический обозреватель при главном редакторе «Известий» (1997 - 2000), постоянный автор "Российской газеты" (с 2001 года).
В качестве специального корреспондента побывал более, чем в 60 государствах мира, в том числе - во всех его «горячих точках». Награжден орденами и медалями СССР, включая боевой орден Красной Звезды, почетными знаками им. Ю.Гагарина, академика С.Королева и др.
Член Союза журналистов России, Союза писателей Москвы. Лауреат премии Ленинского комсомола за книгу «Непобежденный» (1978). Удостоен высших профессиональных наград: премии Союза журналистов СССР, премии им. Михаила Кольцова, премии им. Владимира Гиляровского, высшей награды Союза журналистов РФ - знака «Золотое перо» России" (2011) и др. Награжден «Российской газетой» премией «Золотая страница». Включен в энциклопедический список лучших отечественных очеркистов наряду с Герценом, Короленко, Гиляровским, Горьким, Симоновым, Песковым. Автор 20 документальных книг общим тиражом полтора миллиона экземпляров. Большинство переведены на основные языки мира. Книга Бочарова "Чистые вершины" издана как учебное пособие со справочным аппаратом и ударениями на каждом слове для иностранных вузов с факультетами изучения современного русского языка.
В качестве специального корреспондента побывал более, чем в 60 государствах мира, в том числе - во всех его «горячих точках». Награжден орденами и медалями СССР, включая боевой орден Красной Звезды, почетными знаками им. Ю.Гагарина, академика С.Королева и др.
Член Союза журналистов России, Союза писателей Москвы. Лауреат премии Ленинского комсомола за книгу «Непобежденный» (1978). Удостоен высших профессиональных наград: премии Союза журналистов СССР, премии им. Михаила Кольцова, премии им. Владимира Гиляровского, высшей награды Союза журналистов РФ - знака «Золотое перо» России" (2011) и др. Награжден «Российской газетой» премией «Золотая страница». Включен в энциклопедический список лучших отечественных очеркистов наряду с Герценом, Короленко, Гиляровским, Горьким, Симоновым, Песковым. Автор 20 документальных книг общим тиражом полтора миллиона экземпляров. Большинство переведены на основные языки мира. Книга Бочарова "Чистые вершины" издана как учебное пособие со справочным аппаратом и ударениями на каждом слове для иностранных вузов с факультетами изучения современного русского языка.

О легендах «Комсомольской правды»
КАК ОЛЬГА КУЧКИНА ЗАЩИЩАЛА ЧЕЛОВЕКА ОСОБЕННОГО И ОЗВУЧИВАЛА ШЕСТИДЕСЯТНИЧЕСТВО
Все ЗА одного, но не НА одного
В воскресенье, в единственный тогда выходной, когда люди получали возможность не спеша почитать любимую газету, 8 декабря 1963 года «Комсомолка» напечатала на развороте внутренних полос огромный «подвал» со странным вопросительным заголовком «А если человек особенный?». На летучке очерк отметили в числе лучших, что было ожидаемо: уже сам грандиозный размер публикации свидетельствовал, что это «гвоздь» номера. Автор, молодая, но все же не начинающая журналистка Ольга Кучкина, за плечами которой было шесть лет трудолюбивой работы на этаже, восприняла оценку спокойно. Появившись в редакции летом 1957-го сразу после журфака МГУ, она врастала в коллектив как многие – упорно и старательно, не завышая самооценку, но и не теряя из виду главной цели: добраться до вершин профессии.
В воскресенье, в единственный тогда выходной, когда люди получали возможность не спеша почитать любимую газету, 8 декабря 1963 года «Комсомолка» напечатала на развороте внутренних полос огромный «подвал» со странным вопросительным заголовком «А если человек особенный?». На летучке очерк отметили в числе лучших, что было ожидаемо: уже сам грандиозный размер публикации свидетельствовал, что это «гвоздь» номера. Автор, молодая, но все же не начинающая журналистка Ольга Кучкина, за плечами которой было шесть лет трудолюбивой работы на этаже, восприняла оценку спокойно. Появившись в редакции летом 1957-го сразу после журфака МГУ, она врастала в коллектив как многие – упорно и старательно, не завышая самооценку, но и не теряя из виду главной цели: добраться до вершин профессии.

Два подвала в воскресном номере! Само по себе это было событием в журналистском мире…
Надо сказать, что было, по меньшей мере, два обстоятельства «против» нее. Ее отец был профессор, орденоносец, историк и деятель партии, в которой состоял с дореволюционной поры. То есть был крупным авторитетом в новой советской элите. Происхождение Ольги делало ее, как тогда говорили, «блатной», а такие «дочки-сыночки» вызывали на этаже особую требовательность: надо было доказать, что ты тут не за родовитость, а за собственные способности. Ольга доказывала. Когда строгий редактор небрежно кидал ее заметку в корзину, Оля не гнушалась достать свой текст обратно, приговаривая: «Ничего, я ещё поработаю, исправлю!» И переписывала его, если требовалось, по пять раз.
Вторым обстоятельством была ее яркая внешность. Ольга была стильной московской девочкой, умеющей себя подать. И не стеснялась это делать. А значит тоже доказывать, что ее тексты печатают не за «красивые глазки». Будучи от природы и воспитания работящей и ответственной, зная себе цену, она, тем не менее, держалась вполне демократично, наравне со всеми. Собственно, и ощущала себя таковой. Шестой этаж прививал своим питомцам именно эту манеру и культуру самоощущения.
Возвращаясь после летучки в отдел, Ольга испытывала удовлетворенность мастера, сдавшего свою работу «на ять». Но и только… Неожиданно ее остановил и еще раз поздравил редактор сельского одела Владимир Ильич Онищенко. Увидев недоумение и замешательство Ольги, удивленной таким вниманием самого грозного члена редколлегии, недаром прозванного в редакции «Голдуотером» (имя свирепого американского сенатора-«ястреба» тех лет), Онищенко пояснил: «Похоже, ты сама не понимаешь, что написала»…Кучкина, действительно, этого не понимала. Потому что фронтовик Онищенко и девочка из «оттепели» - это были разные эпохи, сошедшиеся в одной команде лучшей газеты страны. То, что для старшего было в очерке почти крамолой, «ревизионизмом» (тоже термин тех лет, означающий ересь, пересмотр коренных установок идеологии), для младшей было естественной нормой ее текущей жизни.
Сюжет заключался в том, что трудовой коллектив Луганского эмалировочного завода имени Артема имел претензии к своему молодому рабочему Валерию Полуйко, который писал исторические пьесы и имел острые суждения, не всегда зрелые и аргументированные. Комсомольское собрание осудило Валерия за излишнее честолюбие и неоправданную дерзость. А корреспондент «Комсомольской правды» заступилась за Полуйко, признавая его недостатки, но оправдывая их как момент личностного развития талантливого и незаурядного человека. Позицию коллектива она определила как мещанское стремление привести всех к одному знаменателю, чтобы все было ровным, общепринятым, «как у всех» . И защищала право личности на особенность, на индивидуальный формат. Она даже обратилась к понятию «коммунизм», достижение которого в начале «оттепели» было официально объявлено партийными съездами главной целью. Ольга напомнила, что понятие «коммунизм» его создатели рассматривали прежде всего как «общество индивидуальностей». Звучало свежо, потому что политпрос (система политического просвещения) о таком прежде даже не упоминал.
Наступившая в стране «оттепель» повернула общее внимание к личности. Есть любопытное воспоминание журналиста-спичрайтера Фёдора Бурлацкого о том, как готовилась к ХХI партийному съезду Программа КПСС, утвердившая в 1961 году курс на построение к 1980-му коммунистического общества. Когда проект был одобрен Никитой Сергеевичем Хрущевым, тот вдруг предложил подготовить в приложение к Программе «Моральный кодекс строителя коммунизма». Такой свод этических ориентиров идеального человека будущего. Документ был подготовлен и съездом тоже принят. И хотя кодекс утверждал приоритет общественного над личным, все же в нем впервые появились и такие, прежде неслыханные в советском бытовании дефиниции как «человек человеку - друг, товарищ и брат» или «гуманные отношения и взаимное уважение между людьми».
Ольга так и думала. Но так думать было еще настолько в новинку, непривычно и авангардно, что опытный в конъюнктуре старший товарищ, предполагающий возможную реакцию в верхних эшелонах власти, завуалированно посочувствовал автору: мол, сама не поняла, что сотворила…
Он бы поостерегся. А Кучкина не остереглась. И заявила себя как журналиста особенного, со своим пониманием жизни и ее процессов. Такой дерзкий голос нового поколения. Которое войдет в историю страны как поколение «шестидесятников». И для Кучкиной принадлежность к нему настолько дорога, что и сегодня, спустя почти семь десятилетий, она неукротимо провозглашает: «Мы лучшие!»
…В 2005 году для книги воспоминаний о «Комсомолке» Ольга написала текст, который всё о ней как журналисте и деятеле, собственно, и говорит. Это понятно, ее жизнь от первой записи в трудовой книжке до последней, датированной 2016 годом, прошла в одной редакции. Но в этих воспоминаниях хорошо видна и та кропотливая многодесятилетняя работа устроителя общественной жизни, которая позволяет назвать Ольгу Кучкину «голосом шестидесятничества». Всякому серьезному явлению нужен свой рупор. Ольга посвятила свой талант людям «оттепели». Ее рассказ об этом в нижеприведенных фрагментах воспоминаний.
Вторым обстоятельством была ее яркая внешность. Ольга была стильной московской девочкой, умеющей себя подать. И не стеснялась это делать. А значит тоже доказывать, что ее тексты печатают не за «красивые глазки». Будучи от природы и воспитания работящей и ответственной, зная себе цену, она, тем не менее, держалась вполне демократично, наравне со всеми. Собственно, и ощущала себя таковой. Шестой этаж прививал своим питомцам именно эту манеру и культуру самоощущения.
Возвращаясь после летучки в отдел, Ольга испытывала удовлетворенность мастера, сдавшего свою работу «на ять». Но и только… Неожиданно ее остановил и еще раз поздравил редактор сельского одела Владимир Ильич Онищенко. Увидев недоумение и замешательство Ольги, удивленной таким вниманием самого грозного члена редколлегии, недаром прозванного в редакции «Голдуотером» (имя свирепого американского сенатора-«ястреба» тех лет), Онищенко пояснил: «Похоже, ты сама не понимаешь, что написала»…Кучкина, действительно, этого не понимала. Потому что фронтовик Онищенко и девочка из «оттепели» - это были разные эпохи, сошедшиеся в одной команде лучшей газеты страны. То, что для старшего было в очерке почти крамолой, «ревизионизмом» (тоже термин тех лет, означающий ересь, пересмотр коренных установок идеологии), для младшей было естественной нормой ее текущей жизни.
Сюжет заключался в том, что трудовой коллектив Луганского эмалировочного завода имени Артема имел претензии к своему молодому рабочему Валерию Полуйко, который писал исторические пьесы и имел острые суждения, не всегда зрелые и аргументированные. Комсомольское собрание осудило Валерия за излишнее честолюбие и неоправданную дерзость. А корреспондент «Комсомольской правды» заступилась за Полуйко, признавая его недостатки, но оправдывая их как момент личностного развития талантливого и незаурядного человека. Позицию коллектива она определила как мещанское стремление привести всех к одному знаменателю, чтобы все было ровным, общепринятым, «как у всех» . И защищала право личности на особенность, на индивидуальный формат. Она даже обратилась к понятию «коммунизм», достижение которого в начале «оттепели» было официально объявлено партийными съездами главной целью. Ольга напомнила, что понятие «коммунизм» его создатели рассматривали прежде всего как «общество индивидуальностей». Звучало свежо, потому что политпрос (система политического просвещения) о таком прежде даже не упоминал.
Наступившая в стране «оттепель» повернула общее внимание к личности. Есть любопытное воспоминание журналиста-спичрайтера Фёдора Бурлацкого о том, как готовилась к ХХI партийному съезду Программа КПСС, утвердившая в 1961 году курс на построение к 1980-му коммунистического общества. Когда проект был одобрен Никитой Сергеевичем Хрущевым, тот вдруг предложил подготовить в приложение к Программе «Моральный кодекс строителя коммунизма». Такой свод этических ориентиров идеального человека будущего. Документ был подготовлен и съездом тоже принят. И хотя кодекс утверждал приоритет общественного над личным, все же в нем впервые появились и такие, прежде неслыханные в советском бытовании дефиниции как «человек человеку - друг, товарищ и брат» или «гуманные отношения и взаимное уважение между людьми».
Ольга так и думала. Но так думать было еще настолько в новинку, непривычно и авангардно, что опытный в конъюнктуре старший товарищ, предполагающий возможную реакцию в верхних эшелонах власти, завуалированно посочувствовал автору: мол, сама не поняла, что сотворила…
Он бы поостерегся. А Кучкина не остереглась. И заявила себя как журналиста особенного, со своим пониманием жизни и ее процессов. Такой дерзкий голос нового поколения. Которое войдет в историю страны как поколение «шестидесятников». И для Кучкиной принадлежность к нему настолько дорога, что и сегодня, спустя почти семь десятилетий, она неукротимо провозглашает: «Мы лучшие!»
…В 2005 году для книги воспоминаний о «Комсомолке» Ольга написала текст, который всё о ней как журналисте и деятеле, собственно, и говорит. Это понятно, ее жизнь от первой записи в трудовой книжке до последней, датированной 2016 годом, прошла в одной редакции. Но в этих воспоминаниях хорошо видна и та кропотливая многодесятилетняя работа устроителя общественной жизни, которая позволяет назвать Ольгу Кучкину «голосом шестидесятничества». Всякому серьезному явлению нужен свой рупор. Ольга посвятила свой талант людям «оттепели». Ее рассказ об этом в нижеприведенных фрагментах воспоминаний.
Ольга Кучкина. Главные вопросы жизни
«Комсомольская правда», ставшая судьбой, сделала невероятное: подарила замкнутому по своей сути, одинокому человеку самое прекрасное, что есть в мире - роскошь человеческого общения. Не будучи журналистом, могла бы я рассчитывать на встречи, которые прошли через мою жизнь?
Леонид Леонов и Виктор Шкловский, Валентин Катаев и Вениамин Каверин, Борис Слуцкий и Андрей Вознесенский, Владимир Соколов и Владимир Корнилов, Юнна Мориц и Белла Ахмадулина, Олег Чухонцев и Новелла Матвеева, Георгий Товстоногов и Юрий Любимов, Галина Волчек и Марк Захаров, Алексей Арбузов и Александр Володин, Виктор Розов и Александр Гельман, Фазиль Искандер и Василий Аксенов, Михаил Рощин и Юлий Крелин, Андрей Тарковский и Элем Климов, Алексей Герман и Отар Иоселиани, Вадим Абдрашитов и Кира Муратова, Наталья Крымова и Александр Свободин, Олег Даль и Леонид Филатов, Инна Чурикова и Алексей Петренко, Евгений Светланов и Евгений Колобов, Николай Петров и Юрий Башмет, Игорь Моисеев и Галина Уланова, Владимир Васильев и Екатерина Максимова, Елена Камбурова и Александр Градский, Алексей Козлов и Алексей Рыбников, Татьяна Назаренко и Максим Кантор, Юрий Карякин и Генри Резник, Ирина Антонова и Зоя Крахмальникова, Егор Гайдар и Григорий Явлинский, Михаил Горбачев и Андрей Сахаров...Где, в какой жизни, можно было бы вообразить диалоги одного человека с таким количеством - и такого качества! - людей, из тех, кого называют "соль земли"? А если присовокупить, что некоторые из них стали личными друзьями!..
Вся штука еще в том, что журналист имеет право и возможность спрашивать что-то, что в обыденных разговорах остается обычно за рамками, уходить в глубину и черпать там - отчего в результате получается грандиозная мозаика совместных попыток ответов на главные вопросы жизни.
«Комсомольская правда», ставшая судьбой, сделала невероятное: подарила замкнутому по своей сути, одинокому человеку самое прекрасное, что есть в мире - роскошь человеческого общения. Не будучи журналистом, могла бы я рассчитывать на встречи, которые прошли через мою жизнь?
Леонид Леонов и Виктор Шкловский, Валентин Катаев и Вениамин Каверин, Борис Слуцкий и Андрей Вознесенский, Владимир Соколов и Владимир Корнилов, Юнна Мориц и Белла Ахмадулина, Олег Чухонцев и Новелла Матвеева, Георгий Товстоногов и Юрий Любимов, Галина Волчек и Марк Захаров, Алексей Арбузов и Александр Володин, Виктор Розов и Александр Гельман, Фазиль Искандер и Василий Аксенов, Михаил Рощин и Юлий Крелин, Андрей Тарковский и Элем Климов, Алексей Герман и Отар Иоселиани, Вадим Абдрашитов и Кира Муратова, Наталья Крымова и Александр Свободин, Олег Даль и Леонид Филатов, Инна Чурикова и Алексей Петренко, Евгений Светланов и Евгений Колобов, Николай Петров и Юрий Башмет, Игорь Моисеев и Галина Уланова, Владимир Васильев и Екатерина Максимова, Елена Камбурова и Александр Градский, Алексей Козлов и Алексей Рыбников, Татьяна Назаренко и Максим Кантор, Юрий Карякин и Генри Резник, Ирина Антонова и Зоя Крахмальникова, Егор Гайдар и Григорий Явлинский, Михаил Горбачев и Андрей Сахаров...Где, в какой жизни, можно было бы вообразить диалоги одного человека с таким количеством - и такого качества! - людей, из тех, кого называют "соль земли"? А если присовокупить, что некоторые из них стали личными друзьями!..
Вся штука еще в том, что журналист имеет право и возможность спрашивать что-то, что в обыденных разговорах остается обычно за рамками, уходить в глубину и черпать там - отчего в результате получается грандиозная мозаика совместных попыток ответов на главные вопросы жизни.

Анатолий Васильевич Эфрос.
Выдающийся театральный режиссёр, герой публикаций Ольги Кучкиной.
Фото Михаила Гутермана.
Выдающийся театральный режиссёр, герой публикаций Ольги Кучкиной.
Фото Михаила Гутермана.
Эфрос: неопубликованная рецензия
Его можно назвать Чеховым нашего театра. Он и ставит Чехова, по преимуществу. А если не Чехова, то близкого к нему Арбузова.
Я пишу рецензию на новый спектакль Анатолия Эфроса по пьесе Алексея Арбузова "Счастливые дни несчастливого человека", с нетерпением и страстью складывая слова, - и "Комсомолка" отказывается рецензию публиковать. Я писала что-то похожее об "Иванове" в Художественном театре и о "Дон-Жуане" на той же Малой Бронной (где Эфрос), о "Неоконченной пьесе для механического пианино" Никиты Михалкова и о "Чужих письмах" Ильи Авербаха, шедеврах 70-х, - публиковали. О "Счастливых днях..." - не проходит. Сегодня трудно даже вообразить себе резоны, по каким партийный чиновник непременно ставил палки в колеса выдающимся произведениям литературы и искусства. Тот не то сказал, этот не так повернулся в кадре или на сцене, здесь какой-то намек, а там издевательство над устоями. Никакой политики ни драматург, ни режиссер в свое детище не вкладывали, вкладывали честность, искренность и дар, а бдительные цензоры все равно их подозревали в нехорошем…
Эфросу всегда делали массу замечаний. Каждая его работа продиралась сквозь частокол поправок, которые он то выполнял, то плевал на них, унимая сердечную боль. Измученный спектакль рано или поздно выходил, но негласно давалось распоряжение: поменьше прессы или вовсе без прессы. "Счастливые дни..." попали под такое распоряжение. Не зная этого, я носила и носила своему начальству варианты, которые также обрастали замечаниями и поправками.
Так продолжалось много месяцев. Кончилось тем, что я отнесла Эфросу полосу, в которой была заверстана почти вышедшая, но так никогда и не увидевшая света статья. Прочитав, он позвонил и произнес в трубку всего лишь одно слово: интеллигентно.
Его можно назвать Чеховым нашего театра. Он и ставит Чехова, по преимуществу. А если не Чехова, то близкого к нему Арбузова.
Я пишу рецензию на новый спектакль Анатолия Эфроса по пьесе Алексея Арбузова "Счастливые дни несчастливого человека", с нетерпением и страстью складывая слова, - и "Комсомолка" отказывается рецензию публиковать. Я писала что-то похожее об "Иванове" в Художественном театре и о "Дон-Жуане" на той же Малой Бронной (где Эфрос), о "Неоконченной пьесе для механического пианино" Никиты Михалкова и о "Чужих письмах" Ильи Авербаха, шедеврах 70-х, - публиковали. О "Счастливых днях..." - не проходит. Сегодня трудно даже вообразить себе резоны, по каким партийный чиновник непременно ставил палки в колеса выдающимся произведениям литературы и искусства. Тот не то сказал, этот не так повернулся в кадре или на сцене, здесь какой-то намек, а там издевательство над устоями. Никакой политики ни драматург, ни режиссер в свое детище не вкладывали, вкладывали честность, искренность и дар, а бдительные цензоры все равно их подозревали в нехорошем…
Эфросу всегда делали массу замечаний. Каждая его работа продиралась сквозь частокол поправок, которые он то выполнял, то плевал на них, унимая сердечную боль. Измученный спектакль рано или поздно выходил, но негласно давалось распоряжение: поменьше прессы или вовсе без прессы. "Счастливые дни..." попали под такое распоряжение. Не зная этого, я носила и носила своему начальству варианты, которые также обрастали замечаниями и поправками.
Так продолжалось много месяцев. Кончилось тем, что я отнесла Эфросу полосу, в которой была заверстана почти вышедшая, но так никогда и не увидевшая света статья. Прочитав, он позвонил и произнес в трубку всего лишь одно слово: интеллигентно.

Олег Николаевич Ефремов, выдающийся актер и режиссер театра и кино, театральный строитель, педагог, герой публикаций и друг Ольги Кучкиной.
Фото из личного архива Ольги Кучкиной.
Фото из личного архива Ольги Кучкиной.
Между жизнью и смертью Олега Ефремова
Весь Советский Союз влюблен в это простое, ничего особенного, лицо: длинный вислый нос, вислые щеки, сжатые губы, глаза колючие или растерянные, понимающие или не прощающие, или вдруг смеющиеся заразительно - и море обаяния. Знающий себе цену артист и режиссер, строитель театра, знал цену и тщете и никогда не опускался до суеты. Он был из крупных людей.
В дневниках 70-х у меня есть запись: "Приезжал Олег Ефремов. Кормила его ужином. рассказывала ему о своей любви. Он - о своей. Проговорили часа полтора искренне и в то же время бережно. Он чудесный. Сказал: милая Оля, все пройдет, через год я встречу вас в «Пекине», и вы мне скажете, что снова влюблены". Как бы хотелось, чтобы у меня опять была несчастная любовь для того лишь, чтобы услышать от него: "Милая Оля"…
Обладая огромным общественным темпераментом, он был образцом художника, сумевшего сплавить подлинную злободневность с подлинным искусством. Вот у кого искали - и находили. "Декабристы", "Народовольцы", "Большевики", прославленный триптих возглавляемого им "Современника", имел ясно выраженную политическую и социальную окраску.
И все то же самое: спектакли запрещались, чиновники ярились, Олег придумывал нетривиальные ходы, хитрющий, играл в наивность, использовал свое неслыханное обаяние - и побеждал.
Не раз беседовала с ним, писала про его работы, но никогда у нас не состоялось самого главного разговора, о каком я всегда думала, что он необходим. И вот, много лет спустя, когда ему оставалось всего ничего, но ни он, ни я этого не знали, мы, наконец, поговорили. Это было у него дома. Мы пили чай с пирожными. Он выключил аппарат, через который должен был дышать с перерывами (у него было что-то ужасное с легкими), я включила магнитофон. День спустя, расшифровывая пленку, я все никак не могла понять, что получилось. Разговор был какой-то очень простой, простыми словами и про простое. Но когда я закончила расшифровку, у меня почему-то были мокрые глаза.
Разговор был напечатан в "Комсомолке", вызвав, как это часто бывает, когда газета представляет такой мощи персону, шквал звонков. Я не знала, понравится ли публикация Олегу или нет, и с трепетом ждала реакции. Раздался звонок, было сказано два слова: получилось небуржуазно.
Я поняла его: среди гламурных интервью последнего времени это было - человеческое.
Между "интеллигентно" Анатолия Эфроса и "небуржуазно" Олега Ефремова, можно сказать, уложилась жизнь поколения.
Весь Советский Союз влюблен в это простое, ничего особенного, лицо: длинный вислый нос, вислые щеки, сжатые губы, глаза колючие или растерянные, понимающие или не прощающие, или вдруг смеющиеся заразительно - и море обаяния. Знающий себе цену артист и режиссер, строитель театра, знал цену и тщете и никогда не опускался до суеты. Он был из крупных людей.
В дневниках 70-х у меня есть запись: "Приезжал Олег Ефремов. Кормила его ужином. рассказывала ему о своей любви. Он - о своей. Проговорили часа полтора искренне и в то же время бережно. Он чудесный. Сказал: милая Оля, все пройдет, через год я встречу вас в «Пекине», и вы мне скажете, что снова влюблены". Как бы хотелось, чтобы у меня опять была несчастная любовь для того лишь, чтобы услышать от него: "Милая Оля"…
Обладая огромным общественным темпераментом, он был образцом художника, сумевшего сплавить подлинную злободневность с подлинным искусством. Вот у кого искали - и находили. "Декабристы", "Народовольцы", "Большевики", прославленный триптих возглавляемого им "Современника", имел ясно выраженную политическую и социальную окраску.
И все то же самое: спектакли запрещались, чиновники ярились, Олег придумывал нетривиальные ходы, хитрющий, играл в наивность, использовал свое неслыханное обаяние - и побеждал.
Не раз беседовала с ним, писала про его работы, но никогда у нас не состоялось самого главного разговора, о каком я всегда думала, что он необходим. И вот, много лет спустя, когда ему оставалось всего ничего, но ни он, ни я этого не знали, мы, наконец, поговорили. Это было у него дома. Мы пили чай с пирожными. Он выключил аппарат, через который должен был дышать с перерывами (у него было что-то ужасное с легкими), я включила магнитофон. День спустя, расшифровывая пленку, я все никак не могла понять, что получилось. Разговор был какой-то очень простой, простыми словами и про простое. Но когда я закончила расшифровку, у меня почему-то были мокрые глаза.
Разговор был напечатан в "Комсомолке", вызвав, как это часто бывает, когда газета представляет такой мощи персону, шквал звонков. Я не знала, понравится ли публикация Олегу или нет, и с трепетом ждала реакции. Раздался звонок, было сказано два слова: получилось небуржуазно.
Я поняла его: среди гламурных интервью последнего времени это было - человеческое.
Между "интеллигентно" Анатолия Эфроса и "небуржуазно" Олега Ефремова, можно сказать, уложилась жизнь поколения.
Арбузовская студия
Про журналистику, так же, как про науку, говорили: удовлетворение личного любопытства за государственный счет. Абсолютно верно. Больше того: устройство личной судьбы. Она и устроилась за счет "Комсомолки".
Я еще только готовилась к морской экспедиции на научно-исследовательском судне, как вдруг позвонил Алексей Арбузов и сказал: создается студия молодых драматургов, я руководитель, приглашаю вас. Мы встречались некоторое время назад по заданию редакции, интервью с ним вышло в газете, но я наговорила ему больше, чем п5полагалось для интервьюера, в частности, о том, что у меня есть пьеса. К тому времени я стала членом Союза писателей. Арбузов прочел пьесу, хмыкнул и никоим образом не ободрил автора. Пьеса была слабая и туманная. Но вот, однако же, - студия!
Я приплыла - и пришла. И осталась с Арбузовым и студийцами на пятнадцать лет, до самой смерти мастера.
Мне очень приятно, что я была первой, кто написал про Люсю Петрушевскую. Ее пьеса "Любовь" поразила меня, как она поражала всех читавших и видевших позднейшие постановки, как она поражает по сей день: способностью такой записи человеческой речи, где слово есть краска, а соединение слов, их пластика и ритмика суть живопись… "Комсомолка" открыла Петрушевскую.
На корабле я написала пьесу "Белое лето", и Владимир Андреев поставил ее в театре Ермоловой. Постановку следующей пьесы "Страсти по Варваре", придумав ей название, осуществил Олег Табаков в своей "Табакерке".
Про журналистику, так же, как про науку, говорили: удовлетворение личного любопытства за государственный счет. Абсолютно верно. Больше того: устройство личной судьбы. Она и устроилась за счет "Комсомолки".
Я еще только готовилась к морской экспедиции на научно-исследовательском судне, как вдруг позвонил Алексей Арбузов и сказал: создается студия молодых драматургов, я руководитель, приглашаю вас. Мы встречались некоторое время назад по заданию редакции, интервью с ним вышло в газете, но я наговорила ему больше, чем п5полагалось для интервьюера, в частности, о том, что у меня есть пьеса. К тому времени я стала членом Союза писателей. Арбузов прочел пьесу, хмыкнул и никоим образом не ободрил автора. Пьеса была слабая и туманная. Но вот, однако же, - студия!
Я приплыла - и пришла. И осталась с Арбузовым и студийцами на пятнадцать лет, до самой смерти мастера.
Мне очень приятно, что я была первой, кто написал про Люсю Петрушевскую. Ее пьеса "Любовь" поразила меня, как она поражала всех читавших и видевших позднейшие постановки, как она поражает по сей день: способностью такой записи человеческой речи, где слово есть краска, а соединение слов, их пластика и ритмика суть живопись… "Комсомолка" открыла Петрушевскую.
На корабле я написала пьесу "Белое лето", и Владимир Андреев поставил ее в театре Ермоловой. Постановку следующей пьесы "Страсти по Варваре", придумав ей название, осуществил Олег Табаков в своей "Табакерке".
О друзьях по Шестому этажу
В "Комсомолке" было вызывающее количество чуда на один квадратный метр площади. Такой человеческий материал. Чудо из чудес - Виталий Ганюшкин. Изумительно прямая посадка, белокурая голова, серо-голубые глаза: как мужчина - хорош необыкновенно. Но до чего же хорош как человек! Отдельный, хладнокровный, независимый, он все в вас замечал своим внутренним оком, и на все в вас был направлен луч его необыкновенной доброты. Он остроумно мыслил и остроумно писал. Вокруг него клубился народ. Он любил выпить, и народ любил выпить. Чаще всего, ходили пить пиво в ближайшую стекляшку.
Я выпить не любила, но ходила с ними, потому что испытывала время от времени потребность в братстве. А однажды, когда было хреново по самое не могу, отправилась вместе с Ганюшкиным, Дюниным и, по-моему, Мишей Кухтаревым, фотокорреспондентом, в Домжур пить водку. Ничего утешительнее в моей жизни не случалось. Я стойко держалась, чтобы не заплакать, прикрывала глаза рукой, но слезы все же предательски закапали из-под руки. Ганюшкин, не прерывая беседы и выпивки и даже не глядя на меня, стал вытирать своими длинными прохладными пальцами мокроту на моих щеках. Как же я любила его в эту минуту!
И как хорошо, что я успела сказать ему о любви до его смерти. А он успел - мне.
Я говорю не о женско-мужской любви, а о человеческой.
Гек Бочаров был тоже из чудесной породы. Маленький, со сверкающими глазками, сгусток ядерной энергии, он явился завоевывать Москву из провинции и завоевал в кратчайшие сроки. Мы сблизились, работая над совместной корреспонденцией "Добрый день, Чук и Гек!". То есть сблизились буквально: я сидела за машинкой, а он дышал мне в затылок, высмеивая или одобряя мои предложения; после он садился за машинку, а я пристраивалась сбоку и дышала - ему. Такое мы получили задание и, обсасывая фразу за фразой, заполняли белый лист буковками, доставлявшими обоим неизъяснимое наслаждение. Еще нам нравилось, что его зовут Гек, а меня Кучкина, из чего, если прочесть наоборот, получится - Аникчук, а если сократить, то - Чук.
Мы намеревались и дальше продолжить наше удачное сотрудничество, но отчего-то нам стало скучно, и мы продолжали каждый по отдельности, как и раньше. Однако дружбы не прервали. И когда мне в один прекрасный день объявили роковой диагноз, единственный человек, которому мне захотелось позвонить, был Гек. Он тут же примчался и отвез меня в какой-то дикий ресторан в гостинице "Молодежная" за Савеловским вокзалом. Мы заказали выпить и закусить, и Гек принялся без передыху травить истории, от которых я покатывалась с хохоту. Мне совсем не было весело, мне было плохо и страшно, но он так старался, что было бы бесчеловечно не постараться в ответ. А потом он приходил ко мне в больницу, и я не забывала аккуратно открывать рот, чтобы смеяться над его замечательными шутками.
Я могла бы поведать о многих и многих - формат не дает.
В газете была вся моя жизнь, и я ничего не могу и не хочу забыть из той сказочной поры.
В "Комсомолке" было вызывающее количество чуда на один квадратный метр площади. Такой человеческий материал. Чудо из чудес - Виталий Ганюшкин. Изумительно прямая посадка, белокурая голова, серо-голубые глаза: как мужчина - хорош необыкновенно. Но до чего же хорош как человек! Отдельный, хладнокровный, независимый, он все в вас замечал своим внутренним оком, и на все в вас был направлен луч его необыкновенной доброты. Он остроумно мыслил и остроумно писал. Вокруг него клубился народ. Он любил выпить, и народ любил выпить. Чаще всего, ходили пить пиво в ближайшую стекляшку.
Я выпить не любила, но ходила с ними, потому что испытывала время от времени потребность в братстве. А однажды, когда было хреново по самое не могу, отправилась вместе с Ганюшкиным, Дюниным и, по-моему, Мишей Кухтаревым, фотокорреспондентом, в Домжур пить водку. Ничего утешительнее в моей жизни не случалось. Я стойко держалась, чтобы не заплакать, прикрывала глаза рукой, но слезы все же предательски закапали из-под руки. Ганюшкин, не прерывая беседы и выпивки и даже не глядя на меня, стал вытирать своими длинными прохладными пальцами мокроту на моих щеках. Как же я любила его в эту минуту!
И как хорошо, что я успела сказать ему о любви до его смерти. А он успел - мне.
Я говорю не о женско-мужской любви, а о человеческой.
Гек Бочаров был тоже из чудесной породы. Маленький, со сверкающими глазками, сгусток ядерной энергии, он явился завоевывать Москву из провинции и завоевал в кратчайшие сроки. Мы сблизились, работая над совместной корреспонденцией "Добрый день, Чук и Гек!". То есть сблизились буквально: я сидела за машинкой, а он дышал мне в затылок, высмеивая или одобряя мои предложения; после он садился за машинку, а я пристраивалась сбоку и дышала - ему. Такое мы получили задание и, обсасывая фразу за фразой, заполняли белый лист буковками, доставлявшими обоим неизъяснимое наслаждение. Еще нам нравилось, что его зовут Гек, а меня Кучкина, из чего, если прочесть наоборот, получится - Аникчук, а если сократить, то - Чук.
Мы намеревались и дальше продолжить наше удачное сотрудничество, но отчего-то нам стало скучно, и мы продолжали каждый по отдельности, как и раньше. Однако дружбы не прервали. И когда мне в один прекрасный день объявили роковой диагноз, единственный человек, которому мне захотелось позвонить, был Гек. Он тут же примчался и отвез меня в какой-то дикий ресторан в гостинице "Молодежная" за Савеловским вокзалом. Мы заказали выпить и закусить, и Гек принялся без передыху травить истории, от которых я покатывалась с хохоту. Мне совсем не было весело, мне было плохо и страшно, но он так старался, что было бы бесчеловечно не постараться в ответ. А потом он приходил ко мне в больницу, и я не забывала аккуратно открывать рот, чтобы смеяться над его замечательными шутками.
Я могла бы поведать о многих и многих - формат не дает.
В газете была вся моя жизнь, и я ничего не могу и не хочу забыть из той сказочной поры.
Друзья по Шестому этажу о ней
Когда Ольгу Кучкину, обозревателя «Комсомольской правды» со стажем работы в ней в 59 лет (!), настиг ее личный невероятный по цифрам юбилей, коллеги серьезно задумались. Дело в том, что давно став легендарной личностью в журналистской, театральной, писательской и даже международной творческой средах, Кучкина собрала громадную коллекцию всевозможных наград и званий. Что подарить на юбилей такому человеку? И коллеги подарили ей книгу. Про нее саму. Сели за свои компьютеры и написали ее за один вечер. Но за этим вечером - целая жизнь вместе. Здесь несколько фрагментов.
Когда Ольгу Кучкину, обозревателя «Комсомольской правды» со стажем работы в ней в 59 лет (!), настиг ее личный невероятный по цифрам юбилей, коллеги серьезно задумались. Дело в том, что давно став легендарной личностью в журналистской, театральной, писательской и даже международной творческой средах, Кучкина собрала громадную коллекцию всевозможных наград и званий. Что подарить на юбилей такому человеку? И коллеги подарили ей книгу. Про нее саму. Сели за свои компьютеры и написали ее за один вечер. Но за этим вечером - целая жизнь вместе. Здесь несколько фрагментов.

2011 год. На Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ у стенда Клуба журналистов участники автограф-сессий Борис Панкин, главред КП (1965-73) с книгой воспоминаний «Пылинки времени» и обозреватель газеты Ольга Кучкина со своим автобиографическим романом «Косой дождь». Их сотрудничеству и дружбе больше полувека. В центре дочь О.Кучкиной Наташа.
Фото Людмилы Семиной.
Фото Людмилы Семиной.
Борис Панкин, стажер, корреспондент., спецкор, главный редактор КП (1953-73), министр иностранных дел СССР (1991)
Маститый уже в ту пору Лев Славин, наблюдая, как разворачивается на Халхин-Голе только что прибывший туда молодой военкор Константин Симонов, восклицает в своих воспоминаниях:
- Симонов, это был какой-то комбайн…
Вот таким комбайном мне представляется уже много-много лет Ольга Кучкина. Комбайном к тому же еще в сцепке с трактором. Косит, молотит, сушит, сортирует, ссыпает, боронит и много всего другого. Зайдите только в Википедию. Один лишь перечень названий, далеко не полный, думаю, составляет целую электронную страницу. Статьи, интервью, эссе, рецензии, рассказы, пьесы, романы, биографические и автобиографические новеллы… Упакованная после перво-публикаций в книги ее продукция составляет тома и тома….
И трудно самого себя уверить, что все это принадлежит перу, а позднее и клавишам компьютера той красивой девицы, почти девочки, которая, открыв своим появлением парад красавиц на Шестом этаже, замирала от страха, когда ее «по ее материалу» еевызывали в секретариат Маргарита ( Рита) Кирклиссова или Соня (Золотая ручка) Фингер. Так ответственно она относилась к полученным заданиям и так трепетно – к замечаниям старших по перу и по должности. У большинства из нас это проходит с опытом, возрастом, у Ольги, по-моему, сохранилось до сегодняшнего дня.
У Ольги широкий круг читателей-обожателей и еще более широкий – просто читателей-любителей литературы, кино, театра, живописи… Я не случайно выделяю именно этот срез ее читательского сообщества, потому что выполненные в самых разных формах и манерах, но сохраняющие единую интонацию интервью с деятелями искусства и культуры представляются мне наиболее интересной и оригинальной составной многостороннего творчества моей коллеги по «Комсомолке».
Умела каждого разговорить, высечь своими вопросами, как огнивом, ударяя кремнем по кресалу, искры мудрости, остроумия, глубокомыслия, метафоричности…
И порою развернутые вопросы ее были интереснее ответов. Интервью необратимо превращалось в диалог.
Диалог о жизни и любви, без которой она, по собственному ее признанию, Не может жить!
Маститый уже в ту пору Лев Славин, наблюдая, как разворачивается на Халхин-Голе только что прибывший туда молодой военкор Константин Симонов, восклицает в своих воспоминаниях:
- Симонов, это был какой-то комбайн…
Вот таким комбайном мне представляется уже много-много лет Ольга Кучкина. Комбайном к тому же еще в сцепке с трактором. Косит, молотит, сушит, сортирует, ссыпает, боронит и много всего другого. Зайдите только в Википедию. Один лишь перечень названий, далеко не полный, думаю, составляет целую электронную страницу. Статьи, интервью, эссе, рецензии, рассказы, пьесы, романы, биографические и автобиографические новеллы… Упакованная после перво-публикаций в книги ее продукция составляет тома и тома….
И трудно самого себя уверить, что все это принадлежит перу, а позднее и клавишам компьютера той красивой девицы, почти девочки, которая, открыв своим появлением парад красавиц на Шестом этаже, замирала от страха, когда ее «по ее материалу» еевызывали в секретариат Маргарита ( Рита) Кирклиссова или Соня (Золотая ручка) Фингер. Так ответственно она относилась к полученным заданиям и так трепетно – к замечаниям старших по перу и по должности. У большинства из нас это проходит с опытом, возрастом, у Ольги, по-моему, сохранилось до сегодняшнего дня.
У Ольги широкий круг читателей-обожателей и еще более широкий – просто читателей-любителей литературы, кино, театра, живописи… Я не случайно выделяю именно этот срез ее читательского сообщества, потому что выполненные в самых разных формах и манерах, но сохраняющие единую интонацию интервью с деятелями искусства и культуры представляются мне наиболее интересной и оригинальной составной многостороннего творчества моей коллеги по «Комсомолке».
Умела каждого разговорить, высечь своими вопросами, как огнивом, ударяя кремнем по кресалу, искры мудрости, остроумия, глубокомыслия, метафоричности…
И порою развернутые вопросы ее были интереснее ответов. Интервью необратимо превращалось в диалог.
Диалог о жизни и любви, без которой она, по собственному ее признанию, Не может жить!
Геннадий Бочаров, спецкор КП (1967-84), лауреат звания СЖР «Золотое перо России»
Говоря об Ольге, следует сказать главное: журналист и писатель Кучкина – это мир театра, искусства, литературы. Это честное исследование творчества великих и только начинающих актеров, режиссеров, поэтов и драматургов. Материалы Кучкиной в «Комсомолке» были и остаются своеобразной энциклопедией культурных событий более чем полувекового периода в жизни страны и мира.
В жизни Ольги был период, когда она вела авторский телевизионный цикл, который обозначался одной буквой – «Ч». В ходе передачи, ведущая разворачивала одинокую букву в необъятное понятие человека. Ольга счастливо выбирала людей, не прислушиваться к которым было нельзя. А спустя несколько минут передачи, приходило понимание того, что еще большим грехом было невнимание к тому, что говорила сама ведущая.
Посмотрев несколько таких передач, я записал в своем блокноте: человек должен быть всегда включен в духовную розетку другого человека. Думаю и сегодня, что лучшего способа развивать нашу внутреннюю сущность, никто не придумал. Хотя придумано уже многое. Но даже самый гениальный технологический эквивалент не способен породнить тепло живой руки с теплом нагретого протеза.
Творческая жизнь Оли, как раз и основывалась на интересе к человеку. Человек не существует без фона. Понимание этого – дар Оли. Отдавая дань фону – воздавать должное человеку.
Творчество Ольги Кучкиной – это и пример того, как важно оставаться самим собой. В любом жанре, в любой теме, как и в любой жизненной ситуации – как твоего героя, так и твоей личной. Все мы в то молодое время нашей общей работы в «Комсомолке» уже понимали, что духовная жизнь человека никогда не начинается с первой радости. Её начало – первая утрата. Я был свидетелем не одной утраты Оли. Но никогда она не утрачивала себя.
Говоря об Ольге, следует сказать главное: журналист и писатель Кучкина – это мир театра, искусства, литературы. Это честное исследование творчества великих и только начинающих актеров, режиссеров, поэтов и драматургов. Материалы Кучкиной в «Комсомолке» были и остаются своеобразной энциклопедией культурных событий более чем полувекового периода в жизни страны и мира.
В жизни Ольги был период, когда она вела авторский телевизионный цикл, который обозначался одной буквой – «Ч». В ходе передачи, ведущая разворачивала одинокую букву в необъятное понятие человека. Ольга счастливо выбирала людей, не прислушиваться к которым было нельзя. А спустя несколько минут передачи, приходило понимание того, что еще большим грехом было невнимание к тому, что говорила сама ведущая.
Посмотрев несколько таких передач, я записал в своем блокноте: человек должен быть всегда включен в духовную розетку другого человека. Думаю и сегодня, что лучшего способа развивать нашу внутреннюю сущность, никто не придумал. Хотя придумано уже многое. Но даже самый гениальный технологический эквивалент не способен породнить тепло живой руки с теплом нагретого протеза.
Творческая жизнь Оли, как раз и основывалась на интересе к человеку. Человек не существует без фона. Понимание этого – дар Оли. Отдавая дань фону – воздавать должное человеку.
Творчество Ольги Кучкиной – это и пример того, как важно оставаться самим собой. В любом жанре, в любой теме, как и в любой жизненной ситуации – как твоего героя, так и твоей личной. Все мы в то молодое время нашей общей работы в «Комсомолке» уже понимали, что духовная жизнь человека никогда не начинается с первой радости. Её начало – первая утрата. Я был свидетелем не одной утраты Оли. Но никогда она не утрачивала себя.

Ольга Кучкина с коллегой по «Комсомольской правде», ныне шеф-редактором журнала «Родина» Игорем Коцем.
Фото из личного архива Ольги Кучкиной.
Фото из личного архива Ольги Кучкиной.
Игорь Коц, собкор, член редколлегии, ответсекретарь, зам.главного редактора КП (1989-2014)
Тяжкое бремя кураторства ОК (Ольги Кучкиной) – засыл ее заметок на полосы «Комсомолки» - я нес с перерывами пятнадцать лет. Первый раз - в эпоху ельцинской вседозволенности, когда самонадеянно решил, что сокращать Ольгу Кучкину в угоду жесткому макету так же просто, как секвестировать бюджет. Я был глуп и наивен. Хрупкая ОК билась насмерть за каждый дефис. Когда она все-таки сдавала его врагу, то продолжала драться за междометие. За тире. Бросалась в рукопашную за «ньюсик»…
Это неминуемо должно было закончиться кровопролитием, но, к счастью, я ушел в «Советский спорт». В полной уверенности, что мне больше никогда не придется курировать ОК. Но через десять лет я вернулся в «Комсомолку», обогащенный опытом административной работы. И понял, что ОК за это время стремительно продвинулась вперед в тактике и стратегии борьбы с кураторами. Она освоила электронную почту, от которой куратору не смыться даже на Сахалин.
Тяжкое бремя кураторства ОК (Ольги Кучкиной) – засыл ее заметок на полосы «Комсомолки» - я нес с перерывами пятнадцать лет. Первый раз - в эпоху ельцинской вседозволенности, когда самонадеянно решил, что сокращать Ольгу Кучкину в угоду жесткому макету так же просто, как секвестировать бюджет. Я был глуп и наивен. Хрупкая ОК билась насмерть за каждый дефис. Когда она все-таки сдавала его врагу, то продолжала драться за междометие. За тире. Бросалась в рукопашную за «ньюсик»…
Это неминуемо должно было закончиться кровопролитием, но, к счастью, я ушел в «Советский спорт». В полной уверенности, что мне больше никогда не придется курировать ОК. Но через десять лет я вернулся в «Комсомолку», обогащенный опытом административной работы. И понял, что ОК за это время стремительно продвинулась вперед в тактике и стратегии борьбы с кураторами. Она освоила электронную почту, от которой куратору не смыться даже на Сахалин.
Инна Руденко, обозреватель КП (1957-2016), лауреат звания СЖР «Легенда российской журналистики»
Она кто? Известный журналист? Чья известность росла по возрастающей, причину чего как-то публично определил отец всех журналистов Ясен Засурский, рассказав, что запомнил Ольгу еще тоненькой красивой девочкой-младшекурсницей. Заявившей на очередном сборище в Коммунистической аудитории журфака МГУ: «Жить надо не по лжи».
Или она писатель? Автор десятков книг прозы. Поэт? Представивший несколько сборников замечательных стихов. Драматург, чьи пьесы идут по стране и не только? Телеведущая? Ее программа называлась «Время Ч» и вывела под юпитеры полстолицы людей, с которыми она на «ты». Или профессор Иллинойского университета, где Ольга прочла курс лекций студентам (разумеется, по-английски)?
И все это, оставаясь тоненькой красивой девушкой. (Которая не вчера стала бабушкой).
Ни одной из женских бед не миновала ее судьба. Недавно узнаю: заболела. (Прямая спинка подвела). Болезнь была долгой, потом я получила ее результат – книгу «Подсолнух» (маленький роман и повесть). Вот тут-то моя младшая сестра, рассматривая книгу, и сказала: «Оля - феномен». Так в нашей семье при каждом упоминании имени, а часто и вместо имени, звучит теперь это слово «Феномен», рождая чувство восхищения, столь благодатного для старых и малых.
Она кто? Известный журналист? Чья известность росла по возрастающей, причину чего как-то публично определил отец всех журналистов Ясен Засурский, рассказав, что запомнил Ольгу еще тоненькой красивой девочкой-младшекурсницей. Заявившей на очередном сборище в Коммунистической аудитории журфака МГУ: «Жить надо не по лжи».
Или она писатель? Автор десятков книг прозы. Поэт? Представивший несколько сборников замечательных стихов. Драматург, чьи пьесы идут по стране и не только? Телеведущая? Ее программа называлась «Время Ч» и вывела под юпитеры полстолицы людей, с которыми она на «ты». Или профессор Иллинойского университета, где Ольга прочла курс лекций студентам (разумеется, по-английски)?
И все это, оставаясь тоненькой красивой девушкой. (Которая не вчера стала бабушкой).
Ни одной из женских бед не миновала ее судьба. Недавно узнаю: заболела. (Прямая спинка подвела). Болезнь была долгой, потом я получила ее результат – книгу «Подсолнух» (маленький роман и повесть). Вот тут-то моя младшая сестра, рассматривая книгу, и сказала: «Оля - феномен». Так в нашей семье при каждом упоминании имени, а часто и вместо имени, звучит теперь это слово «Феномен», рождая чувство восхищения, столь благодатного для старых и малых.







Особенный из общества индивидуальностей
Кучкина и в самом деле уникальный экземпляр. В ее собрании сочинений о времени и о себе есть и сталинская, и путинская темы, цветаевская история, история Айседоры Дункан, кремлевских жен и постковидной вдовы. И это всегда современно. И всегда «не по лжи», то есть поперек официально-мифологических версий.
Она – стойкий солдатик своего неизменного мира.
Но сам мир вокруг изменчив. Ее герои уходят из жизни в прямом и переносном смыслах… «Оттепель» изжита. Что приходи на смену?
В ее нрассказе последнего времени «Вишневый сад», конечно же, тоже «человек особенный». Но если в 1963 году рядом с таким эпитетом ей пришлось поставить вопросительный знак, обозначив дискуссионность самого права человека в коллективистском обществе на некую личную особость, то в 2021 году пришлось защищать не право на индивидуальность, а право индивидуальности на коллективную работу. Герой «Вишневого сада», некий безымянный, но узнаваемый топ-менеджер, создатель нового медийного имиджа и нового образа страны, вытеснен из зоны влияния своим альтернативным дублером. «Боливар не выдержит двоих…» Герой мог бы, разумеется, исключить альтернативность, но для этого следовало бы отказаться от своей натуры. Герой не смог этого сделать. Ключевая сцена рассказа именно об этом - концертный номер из пастернаковского «Гамлета» с его кульминацией: «Объявите меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя».
Приходилось отойти в сторону. Герой уезжает из страны. И безжалостный вывод автора: «Его блестящие мозги больше были не нужны его стране – нечего себя обманывать. … Его умственная энергия, которая раньше требовалась для решения самых сложных задач, нынче, оставаясь недовостребованной, перегорала попусту». Рассказ завершается символической метафорой: «Он сидел, одинокий, на одиноком стуле, и смотрел пустым взглядом в пустое пространство перед собой. Это было какое-то запредельное одиночество»…
Да, «оттепель» окончательно завершилась. На новом витке развития, в обществе, кстати, уже индивидуального склада (так и не дозревшем до марксова утопического коммунизма) нарос новый коллективизм, со своим моральным кодексом сплоченности и единства, где «человек особенный» тоже оказался вчуже. Так, невольно подтверждая закон исторической цикличности, Ольга Кучкина кольцует этим рассказом-некрологом по шестидесятничеству свой эпохальный роман, который писала всю жизнь.
Но себя особенной она сохранить сумела.
На календаре 2021 год. Ольге Кучкиной исполнилось 85. Как всегда, к юбилею она устраивает салют из новых книг. Клуб журналистов КП выпускает поэтическую антологию «Стихи Шестого этажа от оттепели до новейших времен», в которой есть и раздел Ольги: полтора десятка избранных стихотворений. Капля в море ее стихотворной коллекции. Но она среди шестидесяти своих коллег по газете того периода, которому отдана жизнь. Среди тех, кто стал ее судьбой.
Главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов, раздел которого в антологии рядом с ее, публикует не только обзор Кучкиной «Венок поэтов» об этом сборнике, но и маленький ее роман «Дихотомия» со своим послесловием, где, как и все соэтажники, повествует, какое влияние оказала Кучкина лично на него. В издательстве «Время» издан совместный с мужем Валерием Николаевым «Трансатлантический роман». В журнале «Знамя» повесть«Переводчик». И т.д. Это не вещи из стола, это новые произведения. Комбайн по-прежнему косит, молотит, веет, ссыпает…
И по-прежнему Ольга Кучкина остается собой. Неукротимо провозглашая: «Мы лучшие!»
Кучкина и в самом деле уникальный экземпляр. В ее собрании сочинений о времени и о себе есть и сталинская, и путинская темы, цветаевская история, история Айседоры Дункан, кремлевских жен и постковидной вдовы. И это всегда современно. И всегда «не по лжи», то есть поперек официально-мифологических версий.
Она – стойкий солдатик своего неизменного мира.
Но сам мир вокруг изменчив. Ее герои уходят из жизни в прямом и переносном смыслах… «Оттепель» изжита. Что приходи на смену?
В ее нрассказе последнего времени «Вишневый сад», конечно же, тоже «человек особенный». Но если в 1963 году рядом с таким эпитетом ей пришлось поставить вопросительный знак, обозначив дискуссионность самого права человека в коллективистском обществе на некую личную особость, то в 2021 году пришлось защищать не право на индивидуальность, а право индивидуальности на коллективную работу. Герой «Вишневого сада», некий безымянный, но узнаваемый топ-менеджер, создатель нового медийного имиджа и нового образа страны, вытеснен из зоны влияния своим альтернативным дублером. «Боливар не выдержит двоих…» Герой мог бы, разумеется, исключить альтернативность, но для этого следовало бы отказаться от своей натуры. Герой не смог этого сделать. Ключевая сцена рассказа именно об этом - концертный номер из пастернаковского «Гамлета» с его кульминацией: «Объявите меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя».
Приходилось отойти в сторону. Герой уезжает из страны. И безжалостный вывод автора: «Его блестящие мозги больше были не нужны его стране – нечего себя обманывать. … Его умственная энергия, которая раньше требовалась для решения самых сложных задач, нынче, оставаясь недовостребованной, перегорала попусту». Рассказ завершается символической метафорой: «Он сидел, одинокий, на одиноком стуле, и смотрел пустым взглядом в пустое пространство перед собой. Это было какое-то запредельное одиночество»…
Да, «оттепель» окончательно завершилась. На новом витке развития, в обществе, кстати, уже индивидуального склада (так и не дозревшем до марксова утопического коммунизма) нарос новый коллективизм, со своим моральным кодексом сплоченности и единства, где «человек особенный» тоже оказался вчуже. Так, невольно подтверждая закон исторической цикличности, Ольга Кучкина кольцует этим рассказом-некрологом по шестидесятничеству свой эпохальный роман, который писала всю жизнь.
Но себя особенной она сохранить сумела.
На календаре 2021 год. Ольге Кучкиной исполнилось 85. Как всегда, к юбилею она устраивает салют из новых книг. Клуб журналистов КП выпускает поэтическую антологию «Стихи Шестого этажа от оттепели до новейших времен», в которой есть и раздел Ольги: полтора десятка избранных стихотворений. Капля в море ее стихотворной коллекции. Но она среди шестидесяти своих коллег по газете того периода, которому отдана жизнь. Среди тех, кто стал ее судьбой.
Главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов, раздел которого в антологии рядом с ее, публикует не только обзор Кучкиной «Венок поэтов» об этом сборнике, но и маленький ее роман «Дихотомия» со своим послесловием, где, как и все соэтажники, повествует, какое влияние оказала Кучкина лично на него. В издательстве «Время» издан совместный с мужем Валерием Николаевым «Трансатлантический роман». В журнале «Знамя» повесть«Переводчик». И т.д. Это не вещи из стола, это новые произведения. Комбайн по-прежнему косит, молотит, веет, ссыпает…
И по-прежнему Ольга Кучкина остается собой. Неукротимо провозглашая: «Мы лучшие!»
Наша справка
Ольга Адреевна Кучкина (в замужестве Павлова; род. 9 апреля 1936 г., Москва; окончила журфак МГУ им. М.В.Ломоносова (1958) — российская поэтесса, прозаик, драматург, журналист. Заслуженный работник культуры РСФСР. Член Союза журналистов СССР, Союза писателей СССР (1974) и Союза писателей Москвы. Член Русского ПЕН-центра (1996).Член жюри Независимой литературной премии «Дебют» (2003 и 2007). Член Академии (жюри) «Большая книга»). Академик РАЕН. Действительный член Академии Российской прессы. На телеканалах «Российские университеты» и НТВ вела программу «Время „Ч"» (1995—2000).
Автор более 30 книг прозы, стихов, эссе, публицистики.
Спектакль «Белое лето» шел на сцене театра имени Ермоловой, «Страсти по Варваре» — на сцене театра-студии Олега Табакова, «Иосиф и Надежда, или Кремлёвский театр» — на сценах Англии, Франции, Финляндии, Швеции, Японии. В театре имени Гоголя шли спектакли «Мур, сын Цветаевой» и «Мистраль».
Автор более 30 книг прозы, стихов, эссе, публицистики.
Спектакль «Белое лето» шел на сцене театра имени Ермоловой, «Страсти по Варваре» — на сцене театра-студии Олега Табакова, «Иосиф и Надежда, или Кремлёвский театр» — на сценах Англии, Франции, Финляндии, Швеции, Японии. В театре имени Гоголя шли спектакли «Мур, сын Цветаевой» и «Мистраль».

ОТЧАЯННЫЕ ШЕСТИДЕСЯТНИЦЫ ЕЩЕ В СТРОЮ
Как Капа Кожевникова открыла эпидемию приписок в советской экономике и заставила «хозяина» области публично извиниться перед ней за рукоприкладство
Она в «Комсомолке» с 1958 года
Недавно, ко дню рождения «Комсомолки», пришла весточка из американского Балтимора от Капитолины Кожевниковой. Она - ветеран нашей газеты, работавшая в ней с 1958 по 1075 годы: собкором по Молдавской ССР, затем по областям Центрального Черноземья России, а с 1965 года спецкором на этаже, ведущим аграрным очеркистом «Комсомольской правды».
Недавно, ко дню рождения «Комсомолки», пришла весточка из американского Балтимора от Капитолины Кожевниковой. Она - ветеран нашей газеты, работавшая в ней с 1958 по 1075 годы: собкором по Молдавской ССР, затем по областям Центрального Черноземья России, а с 1965 года спецкором на этаже, ведущим аграрным очеркистом «Комсомольской правды».

1954 год. Молодой журналист-очеркист Капитолина Кожевникова, сотрудник республиканской газеты «Советская Молдавия». Через четыре года она станет собкором «Комсомольской правды» по Молдавской ССР.
Фото:
из личного архива К. Кожевниковой
Фото:
из личного архива К. Кожевниковой
Еще двадцать лет потом была очеркистом в «Литгазете». А в 90-е вслед за дочерью, известным ученым-генетиком, приглашённым в международный проект, переехала в Балтимор и еще пятнадцать лет публиковала там, в русскоязычном журнале путевые очерки из поездок по стране.
Сегодня ей почти 98. И вот - очередное письмо, которое невозможно не процитировать:
Сегодня ей почти 98. И вот - очередное письмо, которое невозможно не процитировать:
«Я в «ЛГ» работала дольше, а память сердца осталась на шестом этаже, в родной «Комсомолке». Многих прекрасных ее журналистов уже нет: Инны Руденко, Юрия Щекочихина, Лиды Графовой. Светлая им память.
Самоотверженности, мужества требовала наша «древнейшая профессия». Каждая командировка – кусок жизни. Вспоминаешь свои поездки, скитания по стране, разным местам, углам, захолустьям и удивляешься, как ты это выдержала. Но это были лучшие годы жизни.
Среди собкоров поколения 50-60-х годов нас - четыре женщины: Инга Преловская из Ленинграда, Инна Руденко из Сталинграда и Клара Скопина из Свердловска, я из Кишинёва. Позже к нам присоединилась Люда Овчинникова, которая сменила в уже переименованном в Волгоград городе Инну Руденко, когда та перешла в аппарат редактором отдела школ. Все мои подруги - яркие, красивые, одаренные молодые женщины. Они сразу приняли меня в свой стан. Я всех их очень любила, дорожила их дружбой, добрым отношением к себе. Рада, что с Ингой и Кларой мы все еще идем по жизни вместе, не теряя связи.
Спасибо судьбе, спасибо «Комсомолке».
Капитолина Кожевникова. 24 мая 2023 года».
Самоотверженности, мужества требовала наша «древнейшая профессия». Каждая командировка – кусок жизни. Вспоминаешь свои поездки, скитания по стране, разным местам, углам, захолустьям и удивляешься, как ты это выдержала. Но это были лучшие годы жизни.
Среди собкоров поколения 50-60-х годов нас - четыре женщины: Инга Преловская из Ленинграда, Инна Руденко из Сталинграда и Клара Скопина из Свердловска, я из Кишинёва. Позже к нам присоединилась Люда Овчинникова, которая сменила в уже переименованном в Волгоград городе Инну Руденко, когда та перешла в аппарат редактором отдела школ. Все мои подруги - яркие, красивые, одаренные молодые женщины. Они сразу приняли меня в свой стан. Я всех их очень любила, дорожила их дружбой, добрым отношением к себе. Рада, что с Ингой и Кларой мы все еще идем по жизни вместе, не теряя связи.
Спасибо судьбе, спасибо «Комсомолке».
Капитолина Кожевникова. 24 мая 2023 года».

1961 год. Два собкора «Комсомолки», две «отчаянные шестидесятницы» - Капитолина Кожевникова (слева), автор очерков о драматичной судьбе русской деревни, и Клара Скопина, автор репортажа о сбитом летчике-шпионе Пауэрсе.
Фото:
из личного архива К. Кожевниковой
Фото:
из личного архива К. Кожевниковой
Да, так и есть: они на связи и сегодня. Кларе исполнилось 93, Инге - 92. Скопина после «Комсомолки» несколько десятилетий ставила на крыло будущих журналистов в Высшей комсомольской школе. Преловская тоже на десятилетия осела в «Известиях», редактором отдела школ, потом обозревателем. У всех троих по нескольку публицистических книг. Кстати, вышедшая в 2015 году книга Скопиной «История одной диверсии. О Пауэрсе и не только. 1960-2015» отправилась на родину сбитого американского летчика-шпиона, в его семейный музей (именно на глазах Клары, волей судьбы и профессии, произошли 1 мая 1960 года обнаружение и расстрел ракетой самолета Пауэрса, о чем она и рассказала, минуя цензуру, в «Комсомолке», в репортаже из воинской части. «Рассекретила» факт даже раньше, чем доложили Хрущеву. И всю жизнь потом вела эту тему).
Перед днем рождения газеты мы созванивались, поздравляли друг друга с нашим главным праздником. Все в бодром настроении и ясной памяти.
Перед днем рождения газеты мы созванивались, поздравляли друг друга с нашим главным праздником. Все в бодром настроении и ясной памяти.
Как «бабы» становились собкорами
Стоит сказать, что женщины-собкоры были в советской журналистике исключительным явлением. У Капитолины Кожевниковой есть трагикомичная зарисовка об этом. Ее пригласили в собкоры прямо со всесоюзного совещания очеркистов, где она блеснула своими публикациями в тогдашней газете «Советская Молдавия». Два месяца она практиковалась затем в редакции «КП». Отдел собкоровской сети согласовал ее переход в «Комсомолку» с руководством республики и ЦК комсомола, редколлегия утвердила в должности. Ждали только возвращения из зарубежной командировки главного редактора - Алексея Аджубея, которому предстояло подписать редакционное удостоверение. Далее событие описывает сама Кожевникова.
«Сижу в приемной, жду. И вдруг слышу гневный голос:
- Что такое? Какую-то бабу сажать на республику? Кто такая? Кто ее привел? Иванова ко мне!
Приходит зам. главного Борис Иванов. Дверь на сей раз захлопывается плотно. Минут через десять зовут меня. За столом сидит еще довольно молодой мужчина, полнеющий и лысеющий, в отличном костюме. Я приготовилась к нападению. Аджубей смотрит на меня холодно-испытующе и начинает говорить о том, какая это честь работать в «Комсомольской правде» и далеко не каждый ее заслуживает. А представлять газету в республике - дело непростое. Да, все он правильно говорил, и я с этим была согласна. Но вот его тон мне не понравился. И я с удивлением слышу собственный голос:
- Уважаемый Алексей Иванович, я понимаю, что работать в «Комсомолке» действительно большая честь и, возможно, я её и не заслуживаю. Отпустите меня, я вернусь в свою газету, и поставим на этом точку.
И совсем некстати добавила чуть не со слезами:
- Очень по своему дому соскучилась.
На лице Аджубея мелькнуло что-то вроде улыбки:
- Посидите в приёмной.
Сижу. Прибегает перепуганный Гегузин, шеф собкоров, являются ребята из отделов, где я проходила практику. Совещаются, решают мою судьбу. Наконец, призывают меня, и Главный объявляет вердикт:
- Берем вас с трехмесячным испытательным сроком. Сумеете за это время себя проявить, оставим, нет - до свидания.
Мечта о «Комсомолке» повисла на очень тоненькой «ниточке». Надо было засучить рукава и искать в исхоженной и исписанной за десять лет работы Молдавии такую тему, которая заявит о моем соответствии масштабу центральной газеты».
Вспомним, что в пятидесятые годы началось предоттепельное послабление жестких скреп военного времени. Только это и, пожалуй, появление в обществе плеяды закаленных фронтовичек позволили сделать гендерные исключения для назначения «бабы» на пост регионального представителя газеты.
Стоит сказать, что женщины-собкоры были в советской журналистике исключительным явлением. У Капитолины Кожевниковой есть трагикомичная зарисовка об этом. Ее пригласили в собкоры прямо со всесоюзного совещания очеркистов, где она блеснула своими публикациями в тогдашней газете «Советская Молдавия». Два месяца она практиковалась затем в редакции «КП». Отдел собкоровской сети согласовал ее переход в «Комсомолку» с руководством республики и ЦК комсомола, редколлегия утвердила в должности. Ждали только возвращения из зарубежной командировки главного редактора - Алексея Аджубея, которому предстояло подписать редакционное удостоверение. Далее событие описывает сама Кожевникова.
«Сижу в приемной, жду. И вдруг слышу гневный голос:
- Что такое? Какую-то бабу сажать на республику? Кто такая? Кто ее привел? Иванова ко мне!
Приходит зам. главного Борис Иванов. Дверь на сей раз захлопывается плотно. Минут через десять зовут меня. За столом сидит еще довольно молодой мужчина, полнеющий и лысеющий, в отличном костюме. Я приготовилась к нападению. Аджубей смотрит на меня холодно-испытующе и начинает говорить о том, какая это честь работать в «Комсомольской правде» и далеко не каждый ее заслуживает. А представлять газету в республике - дело непростое. Да, все он правильно говорил, и я с этим была согласна. Но вот его тон мне не понравился. И я с удивлением слышу собственный голос:
- Уважаемый Алексей Иванович, я понимаю, что работать в «Комсомолке» действительно большая честь и, возможно, я её и не заслуживаю. Отпустите меня, я вернусь в свою газету, и поставим на этом точку.
И совсем некстати добавила чуть не со слезами:
- Очень по своему дому соскучилась.
На лице Аджубея мелькнуло что-то вроде улыбки:
- Посидите в приёмной.
Сижу. Прибегает перепуганный Гегузин, шеф собкоров, являются ребята из отделов, где я проходила практику. Совещаются, решают мою судьбу. Наконец, призывают меня, и Главный объявляет вердикт:
- Берем вас с трехмесячным испытательным сроком. Сумеете за это время себя проявить, оставим, нет - до свидания.
Мечта о «Комсомолке» повисла на очень тоненькой «ниточке». Надо было засучить рукава и искать в исхоженной и исписанной за десять лет работы Молдавии такую тему, которая заявит о моем соответствии масштабу центральной газеты».
Вспомним, что в пятидесятые годы началось предоттепельное послабление жестких скреп военного времени. Только это и, пожалуй, появление в обществе плеяды закаленных фронтовичек позволили сделать гендерные исключения для назначения «бабы» на пост регионального представителя газеты.

1960 год. В редакцию «Комсомольской правды» с докладом о новой партийной Программе построения коммунистического общества приезжает на встречу с собкорами газеты секретарь ЦК КПСС Екатерина Фурцева (первый ряд в центре). Вскоре она попадет в опалу и станет министром культуры, вновь оставив на десятилетия партийный Олимп «без баб». Справа сидят главный редактор «КП» Юрий Воронов и его заместитель Борис Панкин. Капитолина Кожевникова стоит во втором ряду, шестая слева.
Фото: из архива Клуба журналистов «КП»
Фото: из архива Клуба журналистов «КП»
Ведь собкор центрального издания был вполне сравним с послом: он был независим от местных властей, должен был иметь свое мнение о ситуации в регионе, но в отличие от посла собкор-журналист имел возможность высказать это мнение на всю страну. А значит должен был быть готов к бою, к отстаиванию своей позиции, тем более критической. Тут требовался воистину стальной характер. И недюжинные профессиональные способности.
Да и среди коллег следовало показать себя журналистом зрелого общественного проявления. Критерий тогда был прост: поддерживай всё, что растит одухотворенную личность, громи всё, что мешает этому. Но это установка. А как перевести её в конкретику, как нащупать в реальной жизни соответствующую тему…
Да и среди коллег следовало показать себя журналистом зрелого общественного проявления. Критерий тогда был прост: поддерживай всё, что растит одухотворенную личность, громи всё, что мешает этому. Но это установка. А как перевести её в конкретику, как нащупать в реальной жизни соответствующую тему…
О рекордах на бумаге и приписках по плану
Кожевниковой удалось уложиться в испытательный срок. Да еще как удалось!
«Как обычно воспринимали Молдавию? Большая винодельня, приёмы разных делегаций, звон бокалов.
Так, да не так. Совсем недавно организовывались здесь колхозы со всеми перегибами. Шла мучительная ломка старых традиций, усвоение новых. Чуть позже об этом расскажет в своих произведениях талантливый писатель Ион Друцэ. Мне тоже приходилось писать об этом.
Как-то прочитала в местной газете о том, что молодая доярка из Бельцкого района надоила от каждой коровы какое-то гигантское количества молока. Меня взяло сомнение и любопытство. Приехала в колхоз вместе с секретарём райкома комсомола. Уж очень тому хотелось прославить на всю страну свою доярку, свой район. А девушка, ее звали Софья, Софийка, неожиданно заупрямилась: «Не хочу, чтобы больше обо мне писали». Секретарь покрутился и уехал. А мы с Софийкой пошли к ней домой. И за ужином она расплакалась и рассказала мне правду: и половины того молока она не надоила. Но председатель и районные начальники придумали этот «рекорд», чтобы прославиться. Я написала статью про то, как честного, хорошего человека заставили солгать.
В Молдавии начиналась болезнь, которая впоследствии разрослась до невероятных размеров по всему СССР. Болезнь называлась - приписки. Чтобы как-то прозвучать на всесоюзном уровне (а успехов-то больших не было), молдавские руководители стали раздувать на бумаге свои «достижения». Позже приписки стали уже планировать по районам. Ложь стала движущей силой всех хозяйственных дел. Судя по газетным сообщениям в стране снимали огромные урожаи зерна, производили столько мяса и молока, что можно было накормить досыта всю планету. А зерно вскоре повезли в СССР из Канады, Австралии, мясо из маленькой Новой Зеландии...»
Так начинающий собкор молодежной газеты первым же выстрелом поразила огромную цель: диагностировала начало приписочной эпидемии, на десятилетия ставшей одной из главных тем в советской журналистике. Кожевникова развернула тему в моральное русло, как любила «Комсомолка». Ей хотелось всего лишь защитить Софийку.
Но сам факт перерождения планово-отчетной экономики в морок «дутых» достижений был настолько существенным, что выступление «Комсомольской правды» прокатилось по стране громким эхом и даже обсуждалось на всех властных Олимпах. Стоит ли говорить, что имя Капитолины Кожевниковой стало в журналистике по-своему эталонным.
Нашла свою ключевую тему она потом и на российской почве: ею стала драматичная судьба русской деревни и русской крестьянки. Первый же очерк о спрятавшемся от корреспондента председателе колхоза, у которого на ферме оголодавшие коровы стоять не могли, висели на верёвках, вновь отозвался громким общественным резонансом. И в нем Капитолина рассматривала ситуацию глазами самоотверженных доярок, которые рыдали над своими бурёнками, раскладывая по яслям гнилую солому с крыш. И такое «хозяйствование» тоже всячески скрывалось районным начальством ради галочек в отчетах: мол, поголовье крупного рогатого скота в наличии.
Кожевниковой удалось уложиться в испытательный срок. Да еще как удалось!
«Как обычно воспринимали Молдавию? Большая винодельня, приёмы разных делегаций, звон бокалов.
Так, да не так. Совсем недавно организовывались здесь колхозы со всеми перегибами. Шла мучительная ломка старых традиций, усвоение новых. Чуть позже об этом расскажет в своих произведениях талантливый писатель Ион Друцэ. Мне тоже приходилось писать об этом.
Как-то прочитала в местной газете о том, что молодая доярка из Бельцкого района надоила от каждой коровы какое-то гигантское количества молока. Меня взяло сомнение и любопытство. Приехала в колхоз вместе с секретарём райкома комсомола. Уж очень тому хотелось прославить на всю страну свою доярку, свой район. А девушка, ее звали Софья, Софийка, неожиданно заупрямилась: «Не хочу, чтобы больше обо мне писали». Секретарь покрутился и уехал. А мы с Софийкой пошли к ней домой. И за ужином она расплакалась и рассказала мне правду: и половины того молока она не надоила. Но председатель и районные начальники придумали этот «рекорд», чтобы прославиться. Я написала статью про то, как честного, хорошего человека заставили солгать.
В Молдавии начиналась болезнь, которая впоследствии разрослась до невероятных размеров по всему СССР. Болезнь называлась - приписки. Чтобы как-то прозвучать на всесоюзном уровне (а успехов-то больших не было), молдавские руководители стали раздувать на бумаге свои «достижения». Позже приписки стали уже планировать по районам. Ложь стала движущей силой всех хозяйственных дел. Судя по газетным сообщениям в стране снимали огромные урожаи зерна, производили столько мяса и молока, что можно было накормить досыта всю планету. А зерно вскоре повезли в СССР из Канады, Австралии, мясо из маленькой Новой Зеландии...»
Так начинающий собкор молодежной газеты первым же выстрелом поразила огромную цель: диагностировала начало приписочной эпидемии, на десятилетия ставшей одной из главных тем в советской журналистике. Кожевникова развернула тему в моральное русло, как любила «Комсомолка». Ей хотелось всего лишь защитить Софийку.
Но сам факт перерождения планово-отчетной экономики в морок «дутых» достижений был настолько существенным, что выступление «Комсомольской правды» прокатилось по стране громким эхом и даже обсуждалось на всех властных Олимпах. Стоит ли говорить, что имя Капитолины Кожевниковой стало в журналистике по-своему эталонным.
Нашла свою ключевую тему она потом и на российской почве: ею стала драматичная судьба русской деревни и русской крестьянки. Первый же очерк о спрятавшемся от корреспондента председателе колхоза, у которого на ферме оголодавшие коровы стоять не могли, висели на верёвках, вновь отозвался громким общественным резонансом. И в нем Капитолина рассматривала ситуацию глазами самоотверженных доярок, которые рыдали над своими бурёнками, раскладывая по яслям гнилую солому с крыш. И такое «хозяйствование» тоже всячески скрывалось районным начальством ради галочек в отчетах: мол, поголовье крупного рогатого скота в наличии.

1964 год. По обычному деревенскому бездорожью собкору центральной прессы нередко приходилось добираться за фактами в коляске мотоцикла или на лошади и бричке. Зато свежий воздух и полевые цветы…
Фото:
из личного архива К. Кожевниковой
Фото:
из личного архива К. Кожевниковой
«На ковре» ей о оборвали пуговицы
А в 1965 году, спустя восемь лет собкоровского служения, случился инцидент, аналогов которому история советской журналистики не знает. «Хозяин» Воронежской области, первый секретарь обкома партии с говорящей фамилией Хитров, прямо у себя в кабинете, в присутствии секретаря по идеологии и комсомольского вожака области накинулся на корреспондента центральной газеты, схватил за шиворот и рванул так, что пуговицы на ковёр посыпались. Разъярился за недопустимую, на его взгляд, критику: собкор написала, что в разгар лета в плодородной области в магазинах нет овощей - ни огурца, ни капусты, ни помидора. Известный своим самодурством и не терпящий своеволия, тем более от «бабы», Хитров выслал за Кожевниковой машину с сопровождающим, чтобы немедленно доставили на разборку. Едва она вошла, заорал благим матом: «Кто дал тебе право указывать обкому партии, что ему в области пахать и сеять? Что ты здесь - самая умная, нам указывать?» А когда Кожевникова с присущим ей достоинством ответила, что право такое ей дала её газета, что все факты неопровержимы и вполне в русле партийного курса на заботу о человеке, а также что просит на «ты» к ней не обращаться, Хитров и вовсе впал в бешенство, выскочил из-за стола и накинулся на Капитолину с кулаками. Секретарь по идеологии тут же выскочил за дверь, а комсомольский потом говорил, что ничего не видел.
Кожевникову срочно вызвали в редакцию, редколлегия приняла решение написать письмо в «Правду» для публикации, однако, свидетелей «не нашлось», скандал замяли.
Как быть дальше? Первый зам. главреда Борис Панкин успокоил: «Пиши больше критических статей и ничего не бойся!» Она так и сделала.
«В который раз, засучила рукава и – вперед на врага. А врагов хоть отбавляй: бесхозяйственность, разор деревни, разгильдяйство, зажим критики, бесправие человека перед тем, кто хоть на ступеньку выше. Я отводила душу. После каждой критической статьи звонила в обком комсомола, требовала, чтобы принимались меры и сообщалось об этом в редакцию. А Хитров, хоть и неуклюже, на очередной областной комсомольской конференции все-таки извинился передо мной.
И я еще раз оценила свою любимую «Комсомолку». Как же мне повезло, что я работаю в ней! Все-таки многое менялось в обществе. Отчаянные шестидесятники прокладывали новые пути. Журналисты, те, конечно, кто хотел и стремился к этому, стали смелее и честнее.
Да, собкорство - это большое испытание на прочность. И выходит, я его выдержала».
А в 1965 году, спустя восемь лет собкоровского служения, случился инцидент, аналогов которому история советской журналистики не знает. «Хозяин» Воронежской области, первый секретарь обкома партии с говорящей фамилией Хитров, прямо у себя в кабинете, в присутствии секретаря по идеологии и комсомольского вожака области накинулся на корреспондента центральной газеты, схватил за шиворот и рванул так, что пуговицы на ковёр посыпались. Разъярился за недопустимую, на его взгляд, критику: собкор написала, что в разгар лета в плодородной области в магазинах нет овощей - ни огурца, ни капусты, ни помидора. Известный своим самодурством и не терпящий своеволия, тем более от «бабы», Хитров выслал за Кожевниковой машину с сопровождающим, чтобы немедленно доставили на разборку. Едва она вошла, заорал благим матом: «Кто дал тебе право указывать обкому партии, что ему в области пахать и сеять? Что ты здесь - самая умная, нам указывать?» А когда Кожевникова с присущим ей достоинством ответила, что право такое ей дала её газета, что все факты неопровержимы и вполне в русле партийного курса на заботу о человеке, а также что просит на «ты» к ней не обращаться, Хитров и вовсе впал в бешенство, выскочил из-за стола и накинулся на Капитолину с кулаками. Секретарь по идеологии тут же выскочил за дверь, а комсомольский потом говорил, что ничего не видел.
Кожевникову срочно вызвали в редакцию, редколлегия приняла решение написать письмо в «Правду» для публикации, однако, свидетелей «не нашлось», скандал замяли.
Как быть дальше? Первый зам. главреда Борис Панкин успокоил: «Пиши больше критических статей и ничего не бойся!» Она так и сделала.
«В который раз, засучила рукава и – вперед на врага. А врагов хоть отбавляй: бесхозяйственность, разор деревни, разгильдяйство, зажим критики, бесправие человека перед тем, кто хоть на ступеньку выше. Я отводила душу. После каждой критической статьи звонила в обком комсомола, требовала, чтобы принимались меры и сообщалось об этом в редакцию. А Хитров, хоть и неуклюже, на очередной областной комсомольской конференции все-таки извинился передо мной.
И я еще раз оценила свою любимую «Комсомолку». Как же мне повезло, что я работаю в ней! Все-таки многое менялось в обществе. Отчаянные шестидесятники прокладывали новые пути. Журналисты, те, конечно, кто хотел и стремился к этому, стали смелее и честнее.
Да, собкорство - это большое испытание на прочность. И выходит, я его выдержала».
Дочь пчеловода, сама как пчела
Мы проработали с Капитолиной рядом на этаже шесть лет. Впервые услышала о ней на летучке, когда ведущий (уже главред тогда) Борис Панкин упомянул её в своём выступлении: сказал, что великолепное знание Кожевниковой всех тонкостей национальных отношений должно служить нам ориентиром, когда журналист касается столь деликатной материи. «Какими же надо обладать аналитически умом, эрудицией, масштабом взгляда, силой пера, чтобы главный редактор мог так отозваться о тебе!», – подумалось тогда.
Мы проработали с Капитолиной рядом на этаже шесть лет. Впервые услышала о ней на летучке, когда ведущий (уже главред тогда) Борис Панкин упомянул её в своём выступлении: сказал, что великолепное знание Кожевниковой всех тонкостей национальных отношений должно служить нам ориентиром, когда журналист касается столь деликатной материи. «Какими же надо обладать аналитически умом, эрудицией, масштабом взгляда, силой пера, чтобы главный редактор мог так отозваться о тебе!», – подумалось тогда.

1975 год. У спецкора «Комсомольской правды» выходит в издательстве «Молодая гвардия» книга очерков о лучшем ментальном опыте многочисленных наций советской страны, сливающихся в общую реку добра. И ведь это не сказка и не пропаганда, а та реальность, которой служила журналист Кожевникова.
Фото:
из личного архива К. Кожевниковой
Фото:
из личного архива К. Кожевниковой
Капа (так мы звали ее на этаже, хотя она перешла в аппарат довольно поздно, в сорок лет и казалась молодняку очень взрослой) была образцом воспитанности, интеллигентности, мягкого и дружелюбного участия по отношению к коллегам, даже заняв в литгруппе пост её руководителя. Там у нас при ней работали писатели - Владимир Орлов, Юрий Додолев, Нина Павлова, которых Капа не раз прощала за дисциплинарные огрехи, с улыбкой называя «творческими натурами».
Иногда в своих очерках она упоминала собственное крестьянское сердце. Это воспринималось легким, но простительным кокетством: ведь Капа внешне выглядела киноактрисой, умное, благородное, иконописное лицо, волнистые волосы, худощавый элегантный образ, притягательный тембр голоса.
Иногда в своих очерках она упоминала собственное крестьянское сердце. Это воспринималось легким, но простительным кокетством: ведь Капа внешне выглядела киноактрисой, умное, благородное, иконописное лицо, волнистые волосы, худощавый элегантный образ, притягательный тембр голоса.

Женщина без возраста. Такой красоткой Капа Кожевникова была всегда.
Фото:
из личного архива К. Кожевниковой
Фото:
из личного архива К. Кожевниковой
Но когда я прочитала её очерк «Башкирский мёд», с удивлением узнала, что Капа и в самом деле деревенского рода, дочь колхозного пчеловода из Ивановки Стерлибашевского района в Башкирии. Выросла на пасеке. Не оттуда ли генетика долгожителя? А, возможно, и закаленный, стойкий характер, и бесстрашие, твердость позиций. И удивительное трудолюбие, перед которым отступали ложь и вельможное хамство, наветы и зависть, тупость и хитрость жуликов от власти, но зато прирастало товарищества и благодарности, достоинства и защищенности. Трудолюбие, выверенность каждого слова и факта, глубокая проработка темы, «скитания» по любому захолустью ради истины… Недаром, её любимый муж Ося так и называл ее: трудолюбивой пчёлкой.
А мы забегали к ней в кабинет, чтобы выпить во время дежурства чайку с мёдом, который всегда был у неё под рукой.
А мы забегали к ней в кабинет, чтобы выпить во время дежурства чайку с мёдом, который всегда был у неё под рукой.

О ЛЕГЕНДАХ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»
КАК АНАТОЛИЙ ЮРКОВ НЕ ТОРОПИЛ, НО ОПЕРЕЖАЛ ВРЕМЯ
Три его жизни
Он ушел из этого мира 2 ноября 2024 года, за 4 месяца до своего 90-летия. Это была насыщенная и продуктивная жизнь. Верней, было три разных жизни.
Сначала деревенское детство на Рязанщине, война и гибель отца подо Ржевом, с 14 лет работа токарем на Кунцевском механическом заводе, вечерняя школа, служба в армии, первые заметки в многотиражке, работа в районной газете, заочная учёба на журфаке МГУ. От этой жизни у него навсегда осталась любовь к лиловой красоте окалины металлической стружки.
Вторая жизнь – советская и перестроечная журналистика: «Комсомолка», «Социалистическая индустрия», «Труд», «Рабочая трибуна», путь от литсотрудника до главного редактора. В большую прессу вступал в 60-е, воздух «оттепели» навсегда поселился меж строк его текстов. Главной стала экономическая тема «в человеческом измерении». Т.н. «косыгинская реформа»; первые опыты либерализации тотального планирования и стимулирования производства. Защита Байкала. Освоение рыночной экономики и медиабизнеса. И между прочим, тоже успешное.
Жизнь третья – в «Российской газете». Без малого 30 лет. Главным редактором с 1995-го и, наконец, с 2001-го долгожданное свободное писательство, публикации-полосы от политического обозревателя газеты, книги – размышления, 6 книг, одна за одной.
Многие из нас прошли теми же жизненными путями. Но не все так ровно, как он. Устойчивость его бытия как будто не зависела от ветров перемен. Всегда он был на своем месте. Всегда ему соответствовал. Всегда удерживал это место в непоколебимости. Человек-опора.
Получал немало лестных предложений. Но оставался верен своей тяге к самодумству и выбирал те обстоятельства, которые давали простор для него. Поэтому двигался руслом одной реки,наблюдая и описывая текущий, изменчивый её характер. Это и было основным содержанием всех трёх его разных жизней.
Он ушел из этого мира 2 ноября 2024 года, за 4 месяца до своего 90-летия. Это была насыщенная и продуктивная жизнь. Верней, было три разных жизни.
Сначала деревенское детство на Рязанщине, война и гибель отца подо Ржевом, с 14 лет работа токарем на Кунцевском механическом заводе, вечерняя школа, служба в армии, первые заметки в многотиражке, работа в районной газете, заочная учёба на журфаке МГУ. От этой жизни у него навсегда осталась любовь к лиловой красоте окалины металлической стружки.
Вторая жизнь – советская и перестроечная журналистика: «Комсомолка», «Социалистическая индустрия», «Труд», «Рабочая трибуна», путь от литсотрудника до главного редактора. В большую прессу вступал в 60-е, воздух «оттепели» навсегда поселился меж строк его текстов. Главной стала экономическая тема «в человеческом измерении». Т.н. «косыгинская реформа»; первые опыты либерализации тотального планирования и стимулирования производства. Защита Байкала. Освоение рыночной экономики и медиабизнеса. И между прочим, тоже успешное.
Жизнь третья – в «Российской газете». Без малого 30 лет. Главным редактором с 1995-го и, наконец, с 2001-го долгожданное свободное писательство, публикации-полосы от политического обозревателя газеты, книги – размышления, 6 книг, одна за одной.
Многие из нас прошли теми же жизненными путями. Но не все так ровно, как он. Устойчивость его бытия как будто не зависела от ветров перемен. Всегда он был на своем месте. Всегда ему соответствовал. Всегда удерживал это место в непоколебимости. Человек-опора.
Получал немало лестных предложений. Но оставался верен своей тяге к самодумству и выбирал те обстоятельства, которые давали простор для него. Поэтому двигался руслом одной реки,наблюдая и описывая текущий, изменчивый её характер. Это и было основным содержанием всех трёх его разных жизней.

4 марста 2020 года.
Анатолию Пертовичу Юркову - 85 лет.
В рабочем кабинете политического обозревателя «Российской газеты».
Фото: Игорь Курашев.
Анатолию Пертовичу Юркову - 85 лет.
В рабочем кабинете политического обозревателя «Российской газеты».
Фото: Игорь Курашев.
Его родной дом
Наш последний с Анатолием Петровичем разговор (осенью 2023-го) был очень коротким. Видимо, как-то покладисто, на его взгляд, сказала о международной ситуации, и Анатолий Петрович, сердито сверкнув глазами и привычно набычившись, словно хотел боднуть, осадил: «Ты что, не понимаешь, что нас снова пытаются развалить?» Это он о России. О ее беде. Знал, что говорил. Всегда знал, что говорил, всё изучал досконально.
Но вот чтобы так - резко оборвать разговор, без права продолжения, - это было на него не похоже, он любил порассуждать. Оказалось, не обо всём. Оказалось, есть темы, о которых он не считает нужным рассуждать, они для него однозначны. Тема защиты родины – из них. Одна из его ключевых публикаций в «Российской газете» посвящена гордости за погибшего отца-фронтовика, могилу которого искал всю жизнь и фамилия которого выбита теперь на мраморе братского захоронения у памятника возле Ржева. Юрков гордился, что отец защищал Россию.
Про Россию знал немерено: как хозяин знает всё о своем доме. Просто, для одних дом - его личное подворье, а для Юркова его личное подворье – вся страна. У него есть книга «Прости-прощай» об Отечественной войне как народном бедствии, она вся переполнена цифрами: что потеряла страна в своем домашнем хозяйстве, чего лишился народ в житейском, обиходном выражении. Других подобных книг мне не встречалось. Настоящее эконом- этно-социологическое исследование самых скрытых от глаз закромов человеческого военного бытия. Но оно было и его бытом, знал его не понаслышке. И знал, наверное, как надо беречь и сохранять своё, нажитое, родное, тебя окружающее и тебя тоже берегущее.
Одно из первых детских его воспоминаний – как года в три-четыре взялся чинить крыльцо, нашел молоток и забил-таки торчащий из ступеньки гвоздь. Говорил, шляпка у того гвоздя скользкая была, но справился. Отец и похвалил, и поругал: «Заметил непорядок – молодец, поспешил, не посоветовался – зря, я бы сказал, как лучше ударить!» - завет пошёл на пользу. Поэтому и смотрел на всё вокруг цепким глазом заботливого хозяина. Как начал с малолетства, так и хозяйствовал почти что целый век.
Наш последний с Анатолием Петровичем разговор (осенью 2023-го) был очень коротким. Видимо, как-то покладисто, на его взгляд, сказала о международной ситуации, и Анатолий Петрович, сердито сверкнув глазами и привычно набычившись, словно хотел боднуть, осадил: «Ты что, не понимаешь, что нас снова пытаются развалить?» Это он о России. О ее беде. Знал, что говорил. Всегда знал, что говорил, всё изучал досконально.
Но вот чтобы так - резко оборвать разговор, без права продолжения, - это было на него не похоже, он любил порассуждать. Оказалось, не обо всём. Оказалось, есть темы, о которых он не считает нужным рассуждать, они для него однозначны. Тема защиты родины – из них. Одна из его ключевых публикаций в «Российской газете» посвящена гордости за погибшего отца-фронтовика, могилу которого искал всю жизнь и фамилия которого выбита теперь на мраморе братского захоронения у памятника возле Ржева. Юрков гордился, что отец защищал Россию.
Про Россию знал немерено: как хозяин знает всё о своем доме. Просто, для одних дом - его личное подворье, а для Юркова его личное подворье – вся страна. У него есть книга «Прости-прощай» об Отечественной войне как народном бедствии, она вся переполнена цифрами: что потеряла страна в своем домашнем хозяйстве, чего лишился народ в житейском, обиходном выражении. Других подобных книг мне не встречалось. Настоящее эконом- этно-социологическое исследование самых скрытых от глаз закромов человеческого военного бытия. Но оно было и его бытом, знал его не понаслышке. И знал, наверное, как надо беречь и сохранять своё, нажитое, родное, тебя окружающее и тебя тоже берегущее.
Одно из первых детских его воспоминаний – как года в три-четыре взялся чинить крыльцо, нашел молоток и забил-таки торчащий из ступеньки гвоздь. Говорил, шляпка у того гвоздя скользкая была, но справился. Отец и похвалил, и поругал: «Заметил непорядок – молодец, поспешил, не посоветовался – зря, я бы сказал, как лучше ударить!» - завет пошёл на пользу. Поэтому и смотрел на всё вокруг цепким глазом заботливого хозяина. Как начал с малолетства, так и хозяйствовал почти что целый век.
Отбил от экологического мародёрства озеро Байкал. Построил на месте сгоревшей в костромском селе Нежитино новую школу, объявив всенародный сбор средств на это и вдохнув в село вторую жизнь, перечеркнув заложенное в название кармическое заклятие. Посылал выездные редакции на ударные стройки и агитпоезда на БАМ и открыл «Комсомольский прожектор» на строительстве Атомаша, и восстановил «коммунистический субботник» в депо Москва-Сортировочная. С академиками-экономистами внедрял выборы бригадиров и безнарядный хозрасчёт. Запустил в Тирасполе на швейной фабрике сквозные бригады отличного качества. И много ещё чего починил. Потому что везде был его родной дом.

Его любимое занятие
В давние 70-е годы, когда мы вместе работали в «Комсомольской правде», Юркова нередко между собой называли «прорабом». Во-первых, он руководил отделом рабочей молодёжи, «прораб» – как бы по профилю. Во-вторых, сам Анатолий, тогда сорокалетний крепкий мужичок неистребимо пролетарской внешности, хотя всегда в белой рубашке и с нарядным галстуком, внешне очень соответствовал кинематографическому типажу советского прораба, то есть элитной «рабочей косточки». Не козырял, но мы знали: долго, с самого деревенского низу, прорастал до столичных «культурных» этажей. Зато в «Комсомолку» попал уже зрелым человеком, и здесь рос быстро: литсотрудник, завотделом, зам. отвественного секретаря, член редколлегии, редактор отдела рабочей молодежи - «локомотива» каждого газетного номера.
Однако, мне кажется, что Юрков не только внешне, но и по сути своей, по устройству человеческой натуры, так и остался прорабом навсегда, даже в кресле главного редактора. Прораб – устроитель работ. Он был всю жизнь таковым. Всегда вокруг него бригада, которой он деликатно, но продуманно маневрировал. Всегда в голове у него бесконечные проекты, которые в прежние времена называли «мероприятиями», «акциями», «движениями», «инициативами». У Юркова в голове они роились – один другого интересней. Масштаб всегда закладывал всесоюзный, а то и планетарный. Крупного взгляда был стратег. Если б остался служить в армии, был бы генералом наверняка.
В давние 70-е годы, когда мы вместе работали в «Комсомольской правде», Юркова нередко между собой называли «прорабом». Во-первых, он руководил отделом рабочей молодёжи, «прораб» – как бы по профилю. Во-вторых, сам Анатолий, тогда сорокалетний крепкий мужичок неистребимо пролетарской внешности, хотя всегда в белой рубашке и с нарядным галстуком, внешне очень соответствовал кинематографическому типажу советского прораба, то есть элитной «рабочей косточки». Не козырял, но мы знали: долго, с самого деревенского низу, прорастал до столичных «культурных» этажей. Зато в «Комсомолку» попал уже зрелым человеком, и здесь рос быстро: литсотрудник, завотделом, зам. отвественного секретаря, член редколлегии, редактор отдела рабочей молодежи - «локомотива» каждого газетного номера.
Однако, мне кажется, что Юрков не только внешне, но и по сути своей, по устройству человеческой натуры, так и остался прорабом навсегда, даже в кресле главного редактора. Прораб – устроитель работ. Он был всю жизнь таковым. Всегда вокруг него бригада, которой он деликатно, но продуманно маневрировал. Всегда в голове у него бесконечные проекты, которые в прежние времена называли «мероприятиями», «акциями», «движениями», «инициативами». У Юркова в голове они роились – один другого интересней. Масштаб всегда закладывал всесоюзный, а то и планетарный. Крупного взгляда был стратег. Если б остался служить в армии, был бы генералом наверняка.

2006 год - встреча с коллегами в клубе журналистов всех поколений - «Комсомольской правды». Слева направо: Анатолий Юрков, Маргарита Федотова, Виктор Андриянов.
Фото: Людмила Семина.
Фото: Людмила Семина.
В журналистике и писательстве тоже тяготел к крупному формату, последние книги писал ужекак романы. Что ещё удивительно: основательность и организованность не убили в нём доброты и терпимости. Не козырял, но и не скрывал, что был когда-то пару лет первым секретарём горкома комсомола в подмосковном Ступино. Заскучал и вернулся в газету. Власть ради власти, если за ней не было конкретного дела, казалась ему пустой тратой жизни. Во власти больше всего ненавидел коррупцию и чванство. Спеси не выносил. Перед вышестоящими не трепетал, головы не гнул. Властью он распоряжался как полезным ресурсом, чтобы легче и быстрее двигать дело. Потому и не держался за неё: знал, в любом другом месте, начавши с нуля, можно обрасти таким ресурсом. И обрастал неоднократно: когда учредил «Рабочую трибуну», когда принял «Российскую газету», когда довёл байкальскую эпопею до правительственного решения о закрытии треклятого ЦБК. Такой властью гордился. Мы гордились им и тем, что мы — в его бригаде.
Нельзя не вспомнить и об его отношениях с демократией. Как истинный «шестидесятник», он выстроил мировоззрение вокруг уважения к личности человека и к его праву быть активным действующим лицом социума. Демократия для него – это механизм реализации такой активности. В том числе – в экономике. Все будущие академики-экономисты публиковали у Юркова, в молодёжной нашей газете, первые свои дискуссионные статьи о хозрасчёте, бригадном подряде, безнарядных звеньях, самоокупаемости и прочих, крамольных по тем временам, обходных манёврах для раскрепощения хозяйствования. На соседнем с редакцией заводе «Калибр» Юрков проводил научно-социологический эксперимент с хозрасчётом. А в сибирском Красноярске самолично проводил первые в стране выборы прораба на заводском участке. Диалектически увязывал в одно финансовую власть руководителя и добровольное подчинение ей исполнителей, наделённых властью выбора руководителя. Все тогда были романтиками от демократии . Юрков не исключение.
Читал безостановочно. Собирал огромные досье. Учился на высших курсах самого разного профиля. Все новые технологии осваивал на ходу. Вот только писать любил ручкой, так ему было привычней.
Нельзя не вспомнить и об его отношениях с демократией. Как истинный «шестидесятник», он выстроил мировоззрение вокруг уважения к личности человека и к его праву быть активным действующим лицом социума. Демократия для него – это механизм реализации такой активности. В том числе – в экономике. Все будущие академики-экономисты публиковали у Юркова, в молодёжной нашей газете, первые свои дискуссионные статьи о хозрасчёте, бригадном подряде, безнарядных звеньях, самоокупаемости и прочих, крамольных по тем временам, обходных манёврах для раскрепощения хозяйствования. На соседнем с редакцией заводе «Калибр» Юрков проводил научно-социологический эксперимент с хозрасчётом. А в сибирском Красноярске самолично проводил первые в стране выборы прораба на заводском участке. Диалектически увязывал в одно финансовую власть руководителя и добровольное подчинение ей исполнителей, наделённых властью выбора руководителя. Все тогда были романтиками от демократии . Юрков не исключение.
Читал безостановочно. Собирал огромные досье. Учился на высших курсах самого разного профиля. Все новые технологии осваивал на ходу. Вот только писать любил ручкой, так ему было привычней.






Своим чередом
Есть такие публикации, которые становятся визитной карточкой журналиста. Что бы потом ни написал, имя твоё вызывает в памяти ту самую, звёздную заметку. У Анатолия Юркова – это очерк «На рельсах, в пургу»: о делегате съезда комсомола, машинисте электровоза Николае Цветкове. Не одна курсовая и даже дипломная работа посвящены этому очерку. Чем же так зацепил он читателя и коллег?
Сюжет разворачивается такой: Парень поднимается утром по звонку будильника, начинает собираться, на работу, неторопливо, но вдумчиво, проверяя, всё ли нужное взял, включая «тормозок». Потом так неторопливо идёт привычным маршрутом в депо, вспоминает, какие важные дела у него ещё намечены, включая что-то по комсомольской линии, потому что и это держит в голове. в депо заполняет маршрутный лист, принимает тепловоз, проверяет техническое состояние, обговаривает с помощником кое-какие детали. Поднимается в кабину, занимает свое место машиниста, проверяет панель управления, приборы. В положенный срок отправляется в путь. Внимательно смотрит перед собой, не пропуская семафоров и стрелок, каждого и каждую знает наизусть, как и каждый дом вдоль железнодорожного полотна на сотне километров. Всё идёт своим чередом. Герой очерка спокоен и сосредоточен, это его привычное состояние, его работа. Рутинная, утомительная, обычная, невидная. Одним словом, ничего героического.
Разве только видимость из-за начавшейся пурги снизилась, приходилось смотреть зорче, да убавить немного скорость на этом перегоне, чтобы наверстать потом на другом.
И вот, в том же замедленном, рапидном, но по-прежнему обыденном ритме происходит действие не запланированное: впереди, на рельсах, начинает маячить какое-то препятствие, неопределённое серое пятно. Машинист начинает тормозить, его помощник включает гудок, поезд замедляет ход, но пятно, оказавшееся бредущим человеком, с полотна не уходит. Стальной щит очистителя путей перед тепловозом неумолимо приближается к прохожему. Машинист быстро спускается по лесенке на рельсы, бегом опережает тепловоз и буквально выдёргивает за шкирку человека из-под очистителя. Тот в подпитии. Недовольно отпихивая спасителя, обдает его матерком и уходит в метель. Машинист забирается в кабину, включает скорость и подсчитывает, сколько времени забрал неожиданный простой, где теперь придётся догонять время. Это всё.
Есть такие публикации, которые становятся визитной карточкой журналиста. Что бы потом ни написал, имя твоё вызывает в памяти ту самую, звёздную заметку. У Анатолия Юркова – это очерк «На рельсах, в пургу»: о делегате съезда комсомола, машинисте электровоза Николае Цветкове. Не одна курсовая и даже дипломная работа посвящены этому очерку. Чем же так зацепил он читателя и коллег?
Сюжет разворачивается такой: Парень поднимается утром по звонку будильника, начинает собираться, на работу, неторопливо, но вдумчиво, проверяя, всё ли нужное взял, включая «тормозок». Потом так неторопливо идёт привычным маршрутом в депо, вспоминает, какие важные дела у него ещё намечены, включая что-то по комсомольской линии, потому что и это держит в голове. в депо заполняет маршрутный лист, принимает тепловоз, проверяет техническое состояние, обговаривает с помощником кое-какие детали. Поднимается в кабину, занимает свое место машиниста, проверяет панель управления, приборы. В положенный срок отправляется в путь. Внимательно смотрит перед собой, не пропуская семафоров и стрелок, каждого и каждую знает наизусть, как и каждый дом вдоль железнодорожного полотна на сотне километров. Всё идёт своим чередом. Герой очерка спокоен и сосредоточен, это его привычное состояние, его работа. Рутинная, утомительная, обычная, невидная. Одним словом, ничего героического.
Разве только видимость из-за начавшейся пурги снизилась, приходилось смотреть зорче, да убавить немного скорость на этом перегоне, чтобы наверстать потом на другом.
И вот, в том же замедленном, рапидном, но по-прежнему обыденном ритме происходит действие не запланированное: впереди, на рельсах, начинает маячить какое-то препятствие, неопределённое серое пятно. Машинист начинает тормозить, его помощник включает гудок, поезд замедляет ход, но пятно, оказавшееся бредущим человеком, с полотна не уходит. Стальной щит очистителя путей перед тепловозом неумолимо приближается к прохожему. Машинист быстро спускается по лесенке на рельсы, бегом опережает тепловоз и буквально выдёргивает за шкирку человека из-под очистителя. Тот в подпитии. Недовольно отпихивая спасителя, обдает его матерком и уходит в метель. Машинист забирается в кабину, включает скорость и подсчитывает, сколько времени забрал неожиданный простой, где теперь придётся догонять время. Это всё.

2008 год - встреча соклубников в Голубом зале редакции «Комсосмольской правды». Слева направо: экс-председатель Госдумы РФ, главред «КП» 80-х Геннадий Николаевич Селезнев; Политический обозреватель «Российской газеты» Анатолий Петрович Юрков.
Фото: Людмила Семина.
Фото: Людмила Семина.
Читающий очерк, испытывает почти недоумение: о чем это автор? Что написал? Как будто бы подвиг: машинист спас человека. Но разве так о подвигах пишут? Тут какой-то обыкновенный работяга, которому ещё и досталось от вытащенного из-под колёс пьянчужки… да и сам машинист видит в таком случае не героический какой-то поступок, а производственную необходимость; рад он, пожалуй, только тому, что обошлось без ЧП и простой невелик. Такой странный очерк. Идут дни, а ты все думаешь и думаешь об этой ситуации, всё размышляешь, как отнестись к рассказанной истории. И вообще к понятию, что такое подвиг? Очерку уже больше шестидесяти лет, однако и сегодня, кто его читает, испытывает похожие чувства и долго-долго думает о том, что за ложным пафосом изложения нередко теряется сам смысл подвига, как рутинного для конкретного человека поступка. Для него сделать так естественно. И даже вполне рядовое событие.
Юрков не любил преувеличений - ни в сторону героизма, ни в сторону беспочвенного трагизма. Для него жизнь была цепью обычных событий обычного человеческого существования. События отличались друг от друга именно потому, что за каждым из них был конкретный человек, со своими правилами жизни, своими эмоциями, даже со своим собственным темпераментом. Из миллиардов человеческих поступков и складывалась общая конфигурация времени. Уметь увидеть каждое звено этой конфигурации в отдельности таким, каким оно является в реальности, - это и есть профессионализм журналиста по мнению Юркова. Поэтому он так любил невидные детали, умел их разглядеть и выписать, словно через увеличительное стекло. Обходился без восклицательных знаков, но попадал в читательское сердце без промаха.
Юрков не любил преувеличений - ни в сторону героизма, ни в сторону беспочвенного трагизма. Для него жизнь была цепью обычных событий обычного человеческого существования. События отличались друг от друга именно потому, что за каждым из них был конкретный человек, со своими правилами жизни, своими эмоциями, даже со своим собственным темпераментом. Из миллиардов человеческих поступков и складывалась общая конфигурация времени. Уметь увидеть каждое звено этой конфигурации в отдельности таким, каким оно является в реальности, - это и есть профессионализм журналиста по мнению Юркова. Поэтому он так любил невидные детали, умел их разглядеть и выписать, словно через увеличительное стекло. Обходился без восклицательных знаков, но попадал в читательское сердце без промаха.
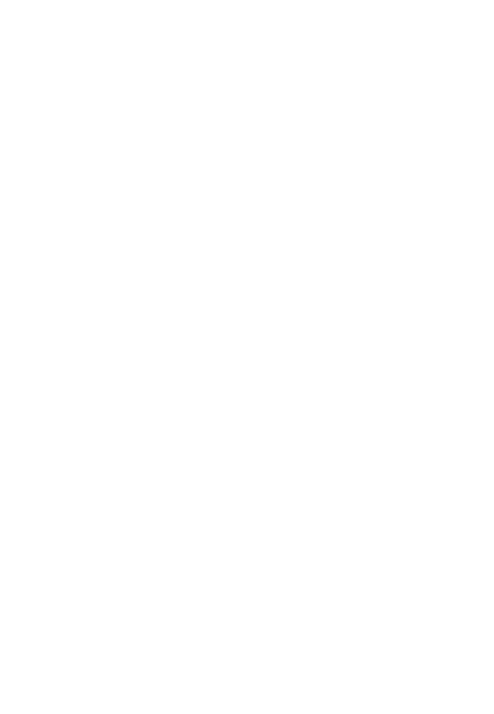
7 декабря 2005 года. Ключевая публикация Анатолия Юркова в защиту Байкала.
История про Байкал
На рабочем столе Юркова после его 85-летия занял свое постоянное и почетное место приз иркутского землячества «Защитнику Байкала» с порядковым номером 1. В полувековой эпопее борьбы за спасение уникального озера Анатолий Петрович, действительно, занимает высшую ступеньку пьедестала. Его главный редактор в «Комсомольской Правде» Борис Панкин вспоминает как еще в середине 60-х Юрков начал на страницах «Комсомольской Правды» дискуссию с академиками от экологии, которые «научно обосновывали» возможность строительства на Байкале целлюлозо-бумажного комбината для производства авиационного корда, используя прямиком из озера его чистейшую, практически дистиллированную воду. Такая экономия! Но в обратную сторону текли уже не дистиллированные, а весьма загрязненные стоки. Академики доказывали, что это нестрашная концентрация отравы, озеро все переварит. Юрков находил других академиков, которые видели ситуацию по-другому. Полемика развернулась нешуточная: политбюро ЦК осаживало газету и ее мнение, однако, на каком-то этапе спора поручило правительству рассмотреть вопрос более тщательно. Тогда вышло постановление, в котором предусматривалось строительство очистных сооружений и другие охранительные меры.
На рабочем столе Юркова после его 85-летия занял свое постоянное и почетное место приз иркутского землячества «Защитнику Байкала» с порядковым номером 1. В полувековой эпопее борьбы за спасение уникального озера Анатолий Петрович, действительно, занимает высшую ступеньку пьедестала. Его главный редактор в «Комсомольской Правде» Борис Панкин вспоминает как еще в середине 60-х Юрков начал на страницах «Комсомольской Правды» дискуссию с академиками от экологии, которые «научно обосновывали» возможность строительства на Байкале целлюлозо-бумажного комбината для производства авиационного корда, используя прямиком из озера его чистейшую, практически дистиллированную воду. Такая экономия! Но в обратную сторону текли уже не дистиллированные, а весьма загрязненные стоки. Академики доказывали, что это нестрашная концентрация отравы, озеро все переварит. Юрков находил других академиков, которые видели ситуацию по-другому. Полемика развернулась нешуточная: политбюро ЦК осаживало газету и ее мнение, однако, на каком-то этапе спора поручило правительству рассмотреть вопрос более тщательно. Тогда вышло постановление, в котором предусматривалось строительство очистных сооружений и другие охранительные меры.
И вот 11 августа 1970 года «Комсомолка» опубликовала очередную Юрковскую «бомбу» «У Байкала» с подзаголовком «Проверяем выполнение постановления Совета Министров СССР "О мерах по сохранению и рациональному использованию природных комплексов бассейна озера Байкал" от 21 января 1969 года». Пользуясь, своими авторскими связями и, как всегда, с головой погрузившись в тему, Юрков раздобыл такие материалы, которые доказывали на фактах и цифрах половинчатость принятого постановления и сохранившуюся опасность загрязнения озера. С учеными лимнологического института СО РАН он проводил заборы воды и донных отложений на месте стоков, чтобы доказать уже идущую деградацию природной среды. Анализ биоматериалов байкальской нерпы показал, что и в ней уже начались уродливые изменения. И везде, где работал с того времени Юрков, он без устали печатал и печатал расследования по байкальской ситуации, привлекая всех его охранителей в соавторы и собеседники, добиваясь закрытия ЦБК и бескомпромиссно, не соглашаясь с разными альтернативными вариантами решения вопроса. Особенно много материала публиковал с середины 90-х годов, возглавив «Российскую газету» и получив, как ее главный редактор, прямой доступ к Правительству РФ. Не без участия газет состоялась экспедиция на батискафе ко дну Байкала российского президента, и уж точно под влиянием публикаций Юркова было принято решение президента об отводе нефтяной трубы от берегов драгоценного озера.
Все свои сражения, поражения и победы - все накопленные материалы Юрков собрал в двух книгах: в 2007 году вышла "Байкальская молитва", за которую автор был удостоен звания Союза журналистов РФ "Золотое перо России", в 2014 году - "Три покушения на Байкал". И когда 25 декабря 2013 года байкальский ЦБК был, наконец, закрыт Юрков отпраздновал это событие как личную победу. Правда, только в кругу самых близких друзей и соратников.
Все свои сражения, поражения и победы - все накопленные материалы Юрков собрал в двух книгах: в 2007 году вышла "Байкальская молитва", за которую автор был удостоен звания Союза журналистов РФ "Золотое перо России", в 2014 году - "Три покушения на Байкал". И когда 25 декабря 2013 года байкальский ЦБК был, наконец, закрыт Юрков отпраздновал это событие как личную победу. Правда, только в кругу самых близких друзей и соратников.

Жизнь во всех ее проявлениях - любимый предмет исследования Анатолия Юркова. Почему кора отстает от ствола?
Фото: Игорь Курашев
Фото: Игорь Курашев
Розы от прораба
Анатолий Петрович не был душкой, он был сложным, довольно закрытым человеком, не пускал в личную жизнь, хотя не уставал повторять, что жена – всегда опора и защита мужика. Не любил бражничать, но со своими, с кем сходился по жизни, любил посидеть-побеседовать. Наверное, эти беседы ещё долго будут отдаваться эхом. Сколько ещё мы вспомним о нём.
Вот вспомнила сейчас совсем неожиданное. Года два-три назад завезла ему книгу в подмосковный дом. Постояли, поговорили у калитки. А потом Анатолий Петрович, как-то мило застеснявшись, предложил: «Давай, покажу тебе свои розы» - вот это был сюрприз! Юрков разводит цветы! Он хвалился ими точно так же, как публикациями – с нескрываемой авторской гордостью. Обещал осенью выкопать куст в подарок. Не выкопал, я отказалась, мне некуда было посадить этот куст. Юрков, кажется, даже немного обиделся. Зря. Я все равно помню я эти розы. И никогда не забуду.
Анатолий Петрович не был душкой, он был сложным, довольно закрытым человеком, не пускал в личную жизнь, хотя не уставал повторять, что жена – всегда опора и защита мужика. Не любил бражничать, но со своими, с кем сходился по жизни, любил посидеть-побеседовать. Наверное, эти беседы ещё долго будут отдаваться эхом. Сколько ещё мы вспомним о нём.
Вот вспомнила сейчас совсем неожиданное. Года два-три назад завезла ему книгу в подмосковный дом. Постояли, поговорили у калитки. А потом Анатолий Петрович, как-то мило застеснявшись, предложил: «Давай, покажу тебе свои розы» - вот это был сюрприз! Юрков разводит цветы! Он хвалился ими точно так же, как публикациями – с нескрываемой авторской гордостью. Обещал осенью выкопать куст в подарок. Не выкопал, я отказалась, мне некуда было посадить этот куст. Юрков, кажется, даже немного обиделся. Зря. Я все равно помню я эти розы. И никогда не забуду.
Дизайн и верстка: Наиль Валиулин
В тренде
Полезно знать
КАЛЕНДАРЬ
АО ИД «Комсомольская правда». 127015, Москва, Новодмитровская ул., дом 5А, стр. 8. Тел. +7 (495) 777-02-82
По вопросам сотрудничества: up@kp.ru
По вопросам сотрудничества: up@kp.ru

