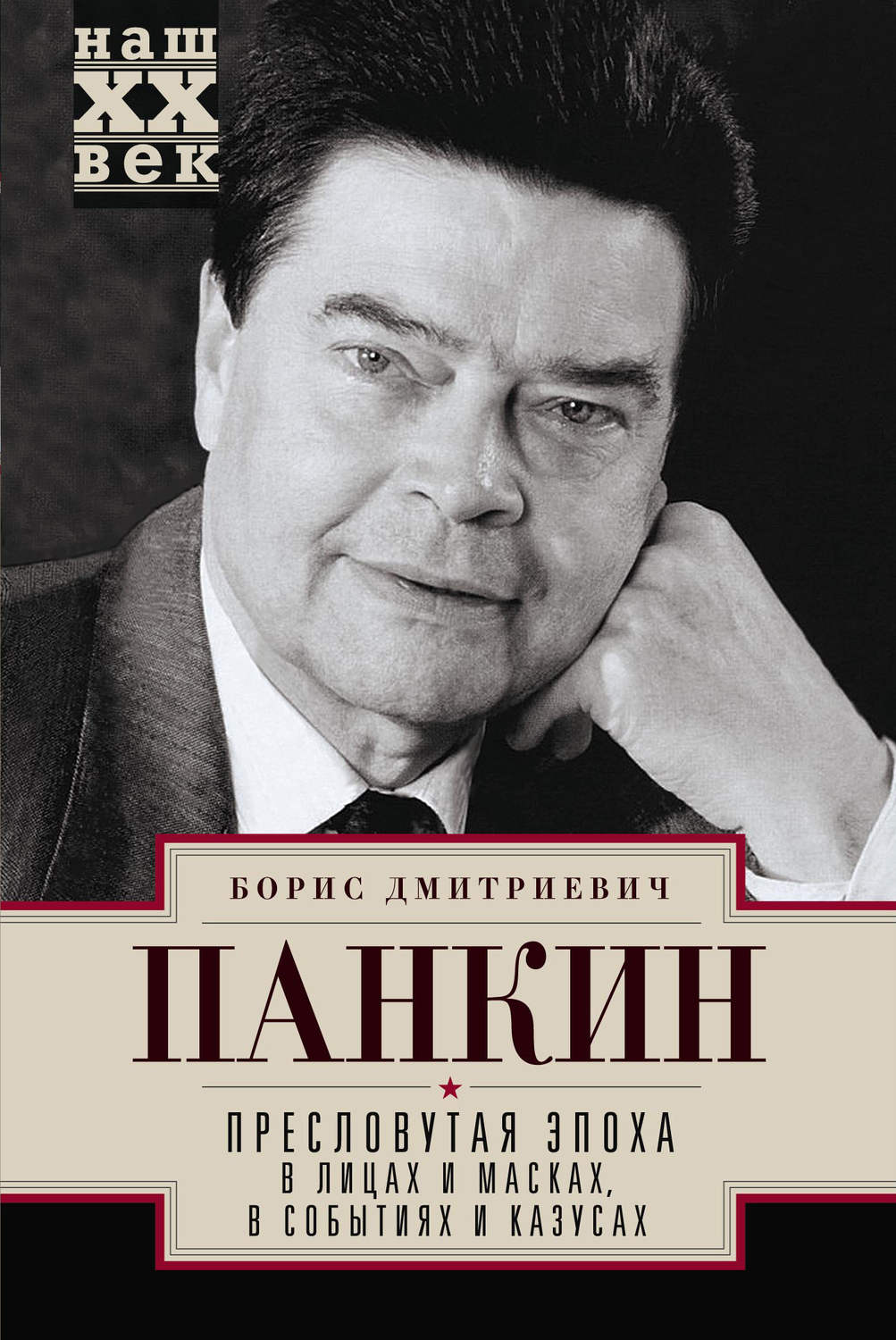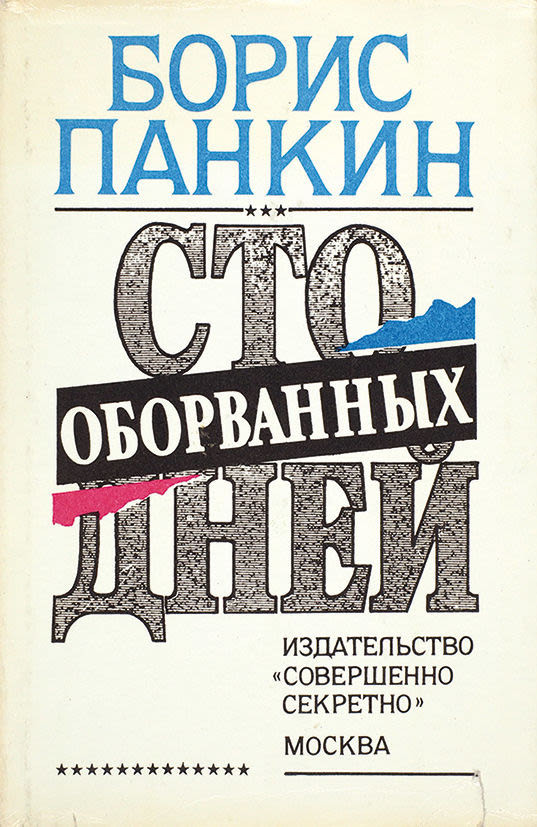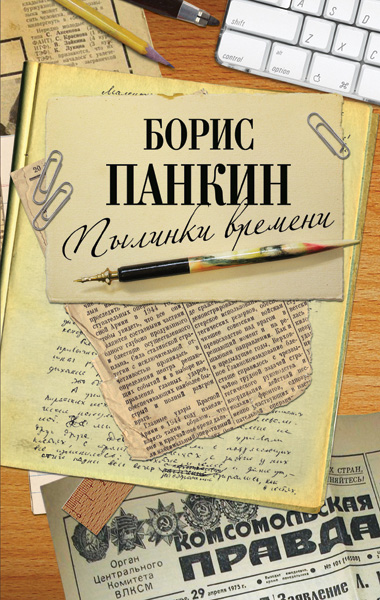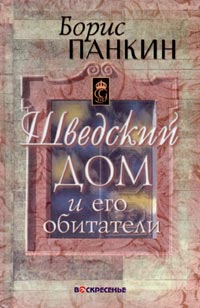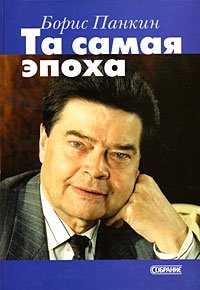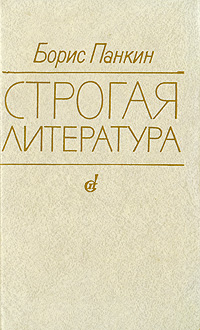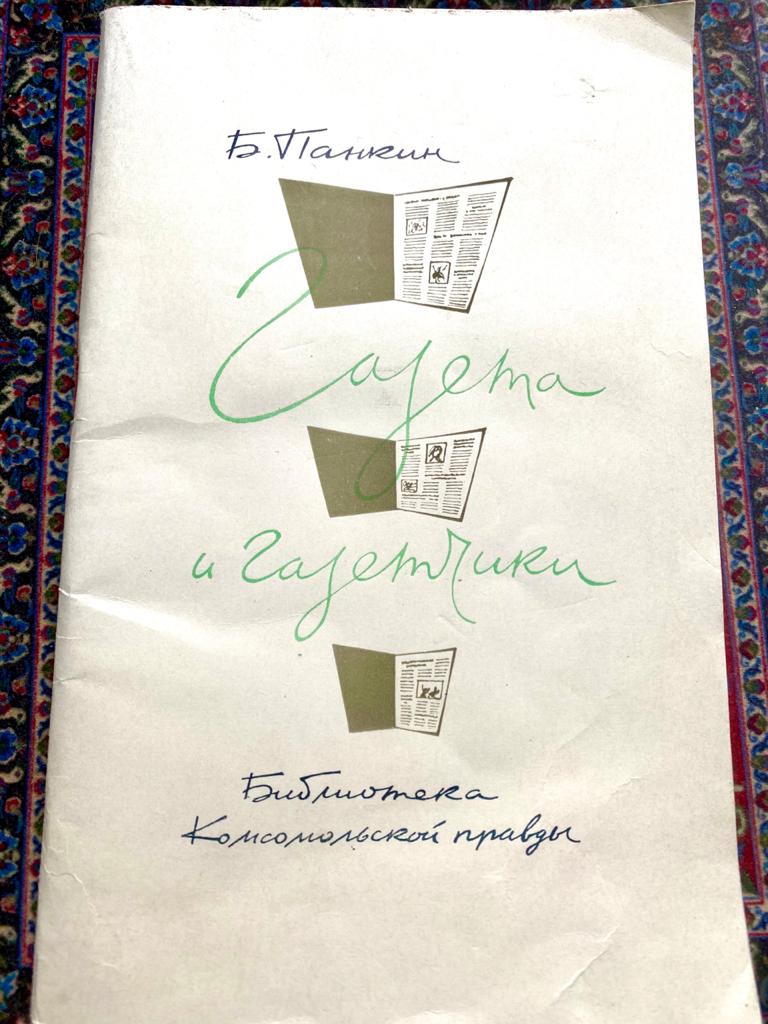На самых последних страницах романа «Четыре Я Константина Симонова» рассказывается, как главного героя везут на операцию, которую ему должны сделать под общим наркозом. Каталка с пациентом движется по больничному коридору. Человек, распростертый под простыней, уже в состоянии полусна-полуяви, видит плывущий над собой потолок, слышит негромкие реплики медсестер, непроизвольно отмечает мимолетные детали. Он привык так делать постоянно – «может, понадобится потом описать…».
Лифт… Два этажа вверх и снова коридор…
Человек на каталке, которому осталось жить чуть более двух недель, – известный всему миру писатель, можно сказать, живой классик. Поэт, прозаик, сценарист и драматург, многократный лауреат государственных премий, обладатель множества наград и регалий, литературный и общественный деятель… При этом не ставший лишь официальной фигурой, а сохранивший читательскую любовь миллионов. Она была с ним с той поры, когда на фронте и в тылу бесчисленное количество сограждан от руки переписывали его «Жди меня».
Справа – окна, слева – череда дверей… «Впрочем, нельзя отвлекаться от главного, того, что он сейчас открыл…»
За 64 года он успел так много, что хватило бы на сто жизней. Добился, кажется, всего, к чему стремился с юности, и даже намного больше. Ему удалось то, о чем наивно и тщетно мечтал другой поэт, его современник: без остатка посвятить себя труду «со всеми сообща и заодно с правопорядком». В конце такого пути человек, наверное, может испытывать спокойное удовлетворение и благодарность судьбе. Да, понимает писатель, «в сущности, он уже выполнил свою миссию на земле, плохо ли, хорошо ли, но выполнил».
И все же не случайно в последние годы жизни он непрерывно подвергал суду собственное прошлое. Чем дальше, тем строже, тем беспощаднее к себе. Давние, но по-прежнему гнетущие его поступки вновь и вновь взвешивались им, переоценивались, рассматривались, как под лупой, с разных сторон и с учетом всех былых обстоятельств. А хорошие дела, которых немало на его счету, не помогали самооправданию. Он ужасается тому, как легко шел на компромиссы, отворачивался от фактов, от страданий и бедствий, которым бывал свидетель или о которых не мог не догадываться. находя обоснование происходящему высокими идеями.
«Ходил по краю пропасти с пеленой на глазах. Отводил их. Зажмуривался».
Обострялось чувство неловкости за свой беспечальный быт советского вельможи, обособивший его именно от тех людей, ради которых он «трудился до крови и пота всю жизнь». Оглядываясь на юность, он пытался разобраться, «и как это получилось, что из обтрепанного, голоштанного субъекта … превратился в некоего спецпотребителя всяческих спецблаг?!». Примечательно, что, находясь в этом обособленном, избранном, привилегированном положении, он все упорнее стремился постичь и рассказать правду о жизни народа, показать войну глазами рядовых солдат…
«…Нельзя отвлекаться от главного, того, что он сейчас открыл».
Что же он открыл для себя?
«Да то, что жить надо было совсем по-другому».
***
При чтении «Четырех Я Константина Симонова» нельзя не заметить, как год за годом, эпизод за эпизодом, меняется, усложняется, углубляется внутренняя жизнь писателя. Уже название книги говорит о множественности мотивов и личностных начал, которые стояли за его трудами и днями. Предпринятая Борисом Дмитриевичем реконструкция душевного мира своего героя – прием, разумеется, ответственный и даже рискованный. Автор опирался на многочисленные дневники писателя, свидетельства его близких, рассказы его многолетней бессменной помощницы Нины Павловны Гордон и на другие источники. Убедительность и цельность романа достигаются, думаю, прежде всего, благодаря художественной интуиции, позволившей тексту подняться выше беллетризированного жизнеописания. И еще немаловажно: автор не скрывает определенной общности со своим героем, который старше на поколение и который в юности был для него, как и для миллионов его сверстников, кумиром.
В книге не раз косвенно подчеркивается необходимость учитывать разницу во времени. Симонов, герой романа, то и дело мысленно перепроверяет себя: могли или нет его персонажи думать, чувствовать именно так в 40-х или 50-х годах? Нельзя, спохватывается он порой, приписать фронтовику, действующему в 1941 году, суждения о том, что стало известно в 1943-м… И так далее. Возможно, и к внутренним монологам Симонова как героя «Четырех Я» можно обратить тот же вопрос: не привнесено ли автором что-либо от себя в мысли и чувства главного персонажа? Все же роман закончен через двенадцать лет после кончины писателя в 1979 году. Это уже совершенно другая эпоха и другая страна. Многие предположения стали бесспорными фактами, многие вопросы получили, казалось бы, окончательные ответы. Тем не менее предложенное нам художественное решение, на мой взгляд, правомерно и, несомненно, подсказано авторской любовью к писателю.
Автор верит, что его герой не уходил из мира «с пеленой на глазах».
Вообще взаимоотношения героя этой книги и ее автора могли бы стать предметом отдельного исследования. Наш Борис Дмитриевич здесь не только рассказчик, очеркист, собеседник людей, близких Симонову при жизни, но нередко и комментатор событий, а иногда мемуарист, отступающий от основного повествования, чтобы вспомнить страницы собственной жизни. Теперь я представляю некоторые истоки его характера, знаю о его предвоенном лете в Сердобске, могу вообразить, как он, девятилетний, идет за руку с бабушкой в Пригородную слободу, на место, где стояла когда-то, до раскулачивания, усадьба его деда.«Странное это было поселение – даже для моего детского восприятия. Не поймешь, где улица начинается, где кончается. Дома то густо стоят, почти налезая друг на друга, то вдруг – пустота меж ними, вся в каких-то ямах, буераках, заросших лебедою и лопухами. В провалах виднелись остовы печей, обугленные, изъеденные жучками тесины. Бабушка тянула меня за руку, больно дергая и не замечая этого, от пепелища к пепелищу и, указывая пальцем свободной руки то в одну сторону, то в другую, яростно восклицала: – Вот, гляди, это нашего свата усадьба… А здесь сусед наш, Иван Постнов, жил, царствие ему небесное, ныне уж и косточки его, поди, давно сотлели. Загубили его душу, говорят, где-то за Уралом-горой, где и дедушка твой побывал…»
У Симонова в семье тоже были пострадавшие от насильственной политики советской власти. В ссылку были отправлены из-за дворянского происхождения две родные сестры его матери. Едва избежал репрессий отчим. В 15 лет Симонов пошел токарем на завод, чтобы предстать уже рабочим поэтом и поступить беспрепятственно в Литературный институт.
Детские травматичные впечатления, вытесненные в подсознание удачливой деятельной жизнью, в какие-то критические моменты оживают, проступают на первый план в мыслях и чувствах и, наряду с накапливающимся противоречивым опытом, лишают картину мира заманчивой однозначности.
Примерно с середины романа автор время от времени фигурирует в тексте уже в третьем лице. Как человек лично знавший Симонова и много лет друживший с ним, он выступает очевидцем событий и действующим лицом. Жизни автора и героя в ходе рассказа все больше сближаются. Такие «судьбы скрещенья» представляют собой еще один скрытый сюжет, который заканчивается в стенах больницы – здесь по стечению обстоятельств одновременно оказались и писатель, и его будущий биограф.
На 60-летии Симонова, отмечавшемся в ноябре 1975 года со всей подобающей случаю пышностью, автор «Четырех Я» не только гость, но и один из выступающих. Вот как описывается в романе это торжество, увиденное как бы глазами героя:
«Нельзя сказать, что в зале и на сцене не было уважаемых и уважающих его, юбиляра, людей. Были, все были – и коллеги-письменники, и друзья-однополчане, и кавалеры солдатского ордена Славы, и академики, и литературные критики, литературоведы, симоноведы… Вспоминали минувшие дни, пели песни на его, К.М., слова, скандировали хором – »От Москвы до Бреста… », разыгрывали сценки из спектаклей по его пьесам и пародии на них. Вешали на него лавровые венки из синтетики, надевали таджикские халаты, преподносили тюбетейки и узбекские керамические вазы с его портретами… Только … душа события как будто бы отлетела. Одна дряблая оболочка трепыхалась в душной, разряженной атмосфере. Печать времени. Печать минувшего десятилетия. Панкин попытался сказать что-то, да и того Беляев, увидев в его руках стопку листов, предупредил, вроде в шутку, но строго: ты давай покороче, не разводи. Президиум собрания в Доме литераторов, демонстрируя отказ от казенщины, на этот раз восседал не за обычным длинным столом, покрытым, как водится, красным или зеленым сукном, а в низких креслах, вокруг небольшого журнального столика. Он, К.М., естественно, находился в центре дуги, и ему хорошо было видно, как маялся со своими листками, готовясь к выступлению, Панкин. Почувствовав, что выпадает из тона, он все же не хотел да и не мог уже расстаться с написанным, но в то же время опасался, видимо, как бы не оказаться тем прапорщиком, который один шагает в ногу…
…Зал, увидев в его руках листки, отрешенно загудел. Оратор, почувствовав настроение аудитории, заторопился. Однако, уловив его, К.М., пристальное внимание, приободрился. Он как раз говорил о своей и своих сверстников, мальчишек военной поры, влюбленности в его, К.М., раннюю, предвоенную и военную лирику, продекламировал полузабытые автором строки: Я бы взял с собой расстояния, Чтобы мучиться от разлук… Потом, почувствовав нарастающее внимание зала, увереннее подошел к нашим временам. »Все главные герои Симонова, – читал Панкин, – в чем-то главном похожи друг на друга, а в целом – на него самого, вернее, на того идеального человека, рыцаря без страха и упрека, каким он, несомненно, хотел всегда и хочет быть сегодня. И то, что не стал таким, – тут зал замер, – то, что не всегда хватало сил и мужества следовать идеалу, – почувствовав, что оратор нажал слегка на тормоза, зал разочарованно гуднул, – было и остается его драмой. – Опять тишина в зале. – Но в том, что эта драма есть, то, что он способен на нее, – в этом источник и сила его творчества, которое одно лишь способно искупить если не все, то хотя бы малую толику наших вин и бед». На этом Панкин закончил и направился на свое место в президиуме под аплодисменты, которые были и громче, и выразительнее, чем те, которыми его встретили. Когда он сел и рассеянно бросил на столик, весь еще во власти столь знакомых К.М. ораторских страстей, листки своего выступления, Симонов увидел, как много там зачеркнутых мест. И протянул за ними руку. Панкин подвинул листки в его сторону».
***
Симонов к тому времени, при всеобщем признании его заслуг, и сам, по сути, именно как драму осознаёт собственную жизнь. Понимает, что она представляла собой «что-то среднее между пиром и каторгой». Платой за славу, за возможность широко издавать свои книги, воплощать новые замыслы, путешествовать по миру как доверенный представитель государства, наконец, за бытовой комфорт стали отказ от творческой свободы, беспрекословное повиновение некоему высшему долгу. Им управляла «железная необходимость, которой он всегда подчинялся без оглядки и без рассуждений».
«Коловращение это ежедневное, пестрая смесь праздников, похорон, заседаний, деловых и торжественных командировок »по стране» и »за рубеж», чествований, вызовов »на ковер» обладали той магической силой, которая приучала буднично, по-рабочему, по-парт ийному относиться ко всему, что бы ни случилось. В русле этого беспрестанного и монотонного движения ничто, казалось, не могло уже удивить, показаться неуместным, чудовищным. Ни разгромная критическая статья, ни публичная порка, ни даже исчезновение – из кабинета или совсем из поля зрения – человека, который еще только вчера заседал рядом с вами – на видном месте в президиуме, или на банкете по случаю завершения какой-нибудь международной Воспринималось так, будто это не люди, а обстоятельства, сам ход их, неизбежный и запрограммированный, как движение небесных светил, становился причиною и того, что случилось с тем, кто только что был рядом, и того, что в любую минуту может случиться с тобой. Сколько бы ни падало камней в темную от бездонной глубины своей водную гладь, все они исчезали, почти не замутив ее зеркальности. Не жизнь, а бесконечный сон с кошмарами, которые перестаешь воспринимать. Только во сне мы так быстро адаптируемся к немыслимым в нормальной жизни обстоятельствам и, принимая их как должное, как правило игры, ведем себя в соответствии с ними».
Эти строки относятся к нескольким зловещим послевоенным годам, когда Симонов, наверное, похолодев, впервые почувствовал себя в заложниках у «магической силы». Впоследствии он вспоминает то время с особым стыдом. В 1949-м дошло до того, что он активно поучаствовал в кампании против «космополитов» и «пришлось принести в жертву самое дорогое, что у него есть, – совесть».
Времена, конечно, менялись; наступила пора, когда можно было уже не уподоблять существование бесконечному сну с кошмарами и даже добровольно выйти из «коловращения» без угрозы для жизни. Тем не менее, вплоть до той самой последней больничной палаты, писатель внешне продолжал следовать правилам вознесшей его системы. Громкое имя, депутатский мандат, престижные отличия позволяли выдерживать более или менее пристойную политику изданий, которые он возглавлял, защитить статьей в «Правде» молодой театр на Таганке. А также делать много полезного для людей, помогать, например, той же Нине Павловне, чей муж был дважды арестован как враг народа. Откликаться на обращения нуждавшихся коллег, пробивать кому публикацию, кому пенсию, кому комнату, кому награду.
Но обратной стороной этой влиятельности были соблюдение номенклатурной субординации, смирение, пусть и в тактических целях, перед разного рода функционерами, в том числе литературными – собирательными «софроновыми-падериными». Потребовалось стать опытным аппаратным бойцом, овладеть бюрократическим новоязом, улавливать разнонаправленные дуновения в недрах власти и лавировать между ее этажами, лагерями, группировками.
Умирая от легочного заболевания, писатель вдруг понимает, какое это счастье – дышать свободно.
***
Первый раз автор книги и ее герой оказываются рядом в знаменательный момент истории. Это фактически кульминационная для страны точка ХХ века. Четыре мартовских дня 1953 года. Очередь к гробу вождя… Место, куда устремились сотни тысяч скорбящих москвичей и к которому было приковано внимание всех советских людей – от оленеводов до хлопкоробов, от академиков до сталеваров и железнодорожников.
Недавно в двухчасовом фильме «Прощание со Сталиным», смонтированном из кадров необъятной архивной кинохроники, режиссер Сергей Лозница показал ту бесконечную очередь в Колонный зал. Можно вглядеться в лица стоявших в ней сутками людей. Перенестись благодаря документальным съемкам в разные уголки страны, где проходили траурные митинги. Услышать надгробные речи и поэтические некрологи, которые проникновенно звучали из всех репродукторов и приемников. Например:
Нет слов таких, чтоб ими описать
Всю нестерпимость горя и печали.
Нет слов таких, чтоб ими рассказать,
Как мы скорбим по вас, товарищ Сталин.
Это написал Симонов. Он прошел в Колонный зал в составе делегации творческих союзов, участвовал к почетной церемонии возложения венков. Смерть Сталина была для него глубоким личным горем. Симонов, конечно, еще ничего не знал о стажере «Комсомолки», который был в той безостановочной людской веренице и который радовался, несмотря на охваченность общей скорбью, что удалось, пробираясь через перегороженные грузовиками улицы, переулки и тупики, через дворы и черные ходы, проползая под створками ворот и прыгая в слякотный снег, все же попасть в заветные траурные покои, увитые черно-красными лентами.
«Это чувство удовлетворения еще не остыло, когда я смотрел, подгоняемый людьми в штатском, на возвышавшиеся над цветами грудь и голову человека, который воспринимался как божество…».
Через две недели после похорон генералиссимуса Симонов пишет для «Литературной газеты», в которой был тогда главным редактором, передовую. Смысл ее сводится к тому, что «теперь, и на многие годы вперед, у нашей советской литературы одна главная задача – создать во всей его полноте образ Сталина – величайшего гения всех времен и народов».
Эта публикация вызвала ярость Хрущева. По иронии судьбы, Симонов навлек на себя опалу, проявив искренние верноподданнические чувства. Он не уловил тогда, что власть уже резко меняется.
Фигура Сталина, взаимоотношения с ним главного героя, последующее переосмысление Симоновым личности вождя и той роли, которую сыграл он в судьбе страны, – стержневая линия «Четырех Я». Поначалу писатель «понятия не имел, что загадка Сталина будет занимать и мучить его всю вторую половину его жизни и что он уйдет, так и не разрешив ее для себя». Однако произошло именно так. Гипнотическая завороженность «кремлевским горцем» была долго свойственна ему, как и многим большим писателям той эпохи, от Пастернака до Булгакова. Симонову Сталин представлялся чем-то вроде мощного природного явления, грозной стихии. «Велик, но страшен». Автор книги, услышав эти слова Симонова от его вдовы Ларисы Алексеевны, не скрывает своего неприятия подобного суждения:
«– Но что же мне делать? – в шутливом отчаянии воздев руки, воскликнул я. – Что мне делать, если в этой формуле – велик, но страшен, – мне правильной кажется только вторая ее часть?»
В романе подробно прослеживается, как, с колебаниями, сомнениями, отступлениями, в контексте непоследовательного кремлевского курса, происходило болезненное осознание Симоновым реальности. Через какие вехи, начиная от огромного потрясения услышанным на ХХ съезде партии, совершался для него личный переход от обожествления вождя к пониманию губительности для страны «правопорядка», который был выстроен под началом Сталина и который Сталин олицетворял.
Одна из таких вех – впечатление от фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». В 1971 году, уже после смерти режиссера, Симонов решает посмотреть картину повторно. В маленьком просмотровом зале он внезапно понимает, что этот фильм не только о Гитлере. В атрибутике нацистской Германии ему теперь видятся приметы жизни, окружавшей Сталина. И среди этих примет – особенности культурной среды и ее лояльных представителей, служивших так или иначе культу одного человека. Симонов вдруг понимает, что в глазах потомков это общее качество лишает подобных деятелей каких-либо существенных отличий.
«Был, оказывается, такой узаконенный термин – искусство фашизма. Были сгинувшие без следа его творцы. Все сразу, без разбора. Со своими монументальными скульптурными группами, олицетворяющими незыблемость рейха, со своими жизнерадостными, брызжущими половодьем красок полотнами, со своими, в твердых обложках, фолиантами, наверняка оптимистического, жизнерадостного звучания. А тоже ведь, наверное, делились на разные школы и группы, вели между собою полемику. Кто-то слыл либералом, кто-то консерватором. Кого-то увешивали наградами, кого-то поливали грязью в газетах. И если сегодня одни были наверху, то завтра – другие, а послезавтра, смотришь, снова поменялись местами. Сгинули без следа все до единого – со всеми своими различиями, оттенками, наградами, премиями и выговорами, со своим восторженным или сдержанным, просвещенно скептическим отношением к рейху. Никаких этих оттенков не сохранила историческая память. Звучат и помнятся, живут и поныне в сознании потомков лишь те, кто отринул всякую связь с рейхом. Бежал как от чумы от свастик, марширующих болванов, карающих и осчастливливающих фюреров, пропагандистских лакеев геббельсовской своры, от сладкой отравы их писаний в прессе. Или ушел в подполье…»
Подобные размышления, сама их направленность – свидетельство определенного духовного перелома и смелости перед самим собой. Так же как занесение Симоновым в дневник выдержки из письма Томаса Манна к Э. Бертраму:
«Бертрам призывал Манна вернуться домой, чтобы принять участие в строительстве »новой Германии», признать величие Гитлера, ведущего народ к национальному возрождению. И что ему отвечал Манн? »Что Вы способны принимать мерзейшего в мировой истории шута за »спасителя» – это для меня постоянное горе… Начали ли Вы видеть? Нет, ибо кровавыми руками Вам закрывают глаза, а Вы куда как довольны такою защитой… »».
«Велик. Но страшен». На этом признании, судя по всему, заканчивается личная идейная эволюция Симонова в ее части взаимоотношений с вождем. Конечно, это огромный шаг от «величайшего гения всех времен и народов», звания, которое долго не подвергалось и тени сомнения. «Хоть бы он жил вечно!» – восклицал упоенно друг Симонова Борис Горбатов. В таком умонастроении отражались эмоции большинства людей «сталинской эпохи». «Этим ядом была отравлена вся страна», – заметил недавно в Фейсбуке Денис Драгунский.
Характерно, что при попытках найти объяснения подобному беспрецедентному для всей мировой истории феномену Симонов склоняется к признанию некой иррациональной, «магической», силы. В книге не раз употребляются понятия из легенд и сказок, вроде «злых чар», «колдовства», «магнетизма». Из того же ряда – капризная, неуправляемая «стихия», способная то покарать, то наградить.
И все же… Одна дневниковая запись дает основание полагать, что в раздумьях над «тайной Сталина» писателя озаряла – возможно, непроизвольно, – и догадка совершенно свободная от какой-либо мистики и веры в сверхъестественные начала.
«Говорят, в архивах Горького после его смерти нашли фразу: »Тысячекратно увеличенная блоха была бы самым ужасным и непобедимым существом на свете». Ягода дико матерился, но мертвый Буревестник был уже ему не подотчетен».
Уместно вспомнить в этой связи слова другого писателя, человека уже моего поколения. Он тоже задумывался о «загадке вождя», признавая удивительную ее живучесть:
«Такое ощущение, что вся страна мучительно ищет разгадку какого-то грандиозного, таинственного, страшного явления, которое уходит корнями в давнее прошлое, во многом определяет довольно-таки смутное настоящее и грозит дать метастазы в далеком будущем».
И дал, в 1989 году, свой ответ, простой, без иносказаний и метафор: «Все дело в масштабе. Согласитесь, что в мелких тиранах никто из нас не видит ничего загадочного… А Сталин – мелкий тиран, получивший неограниченную власть».
Однако разве именно факт неограниченной власти не представляет собой часть той же загадки? И на этот вопрос тем же автором было предложено рациональное объяснение: в 1917 году «огромная страна свернула с традиционного общечеловеческого пути, и эти противоестественные годы вызвали к жизни патологическую личность Сталина, определив ее в той же мере, в какой он, Сталин, по закону обратной связи, определил свою и, к сожалению, нашу эпоху».
Я привожу эти слова Сергея Довлатова и чувствую, что сегодня, когда Россию охватывает очередная волна ностальгии по СССР, они звучат почти как крамола. Но Борис Дмитриевич учил и учит нас своим примером: иногда приходится быть в роли «того прапорщика, который один шагает в ногу». И не стоит этого опасаться.
Июнь 2020.
Автор — корреспондент «КП» 1960-1970-х гг.