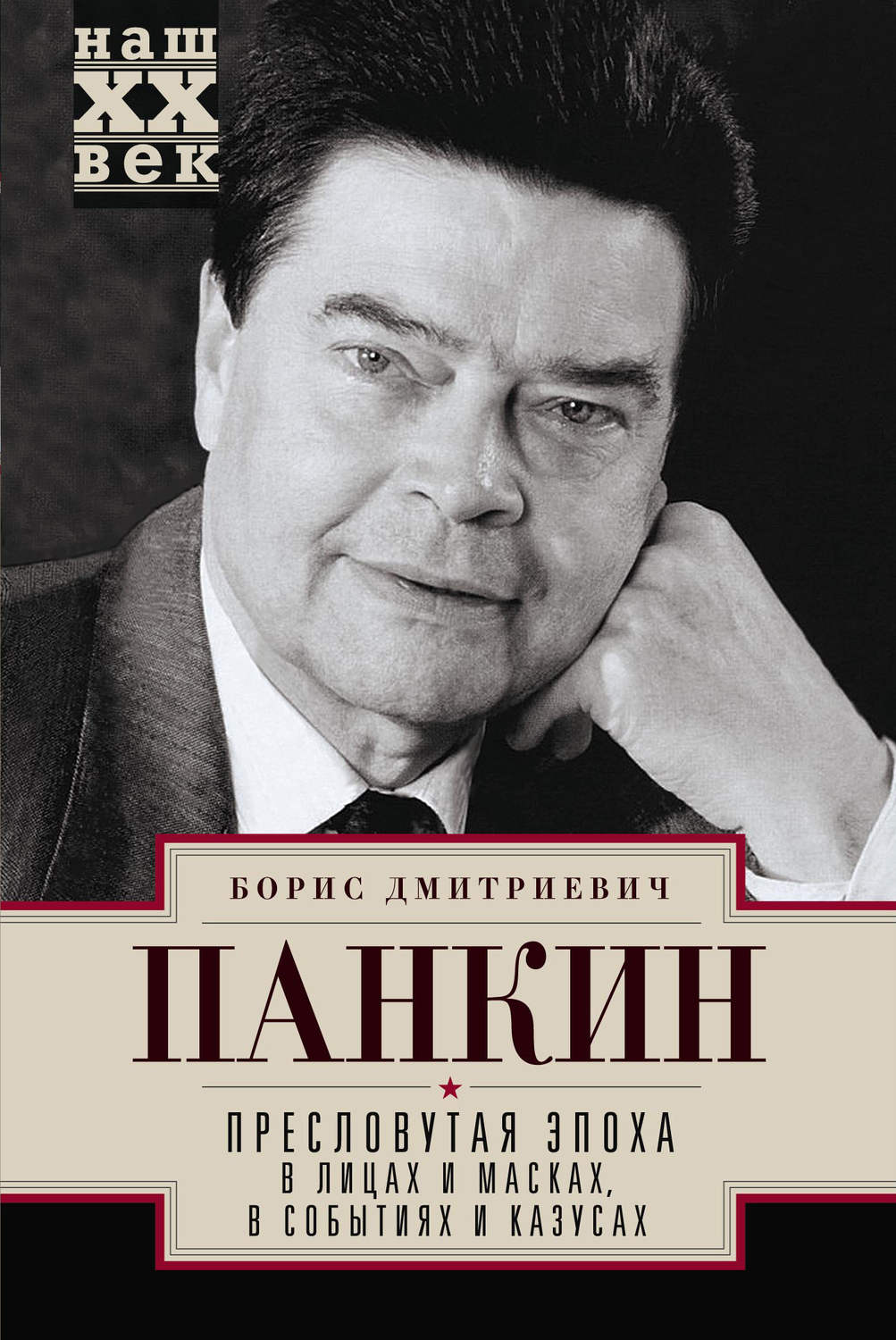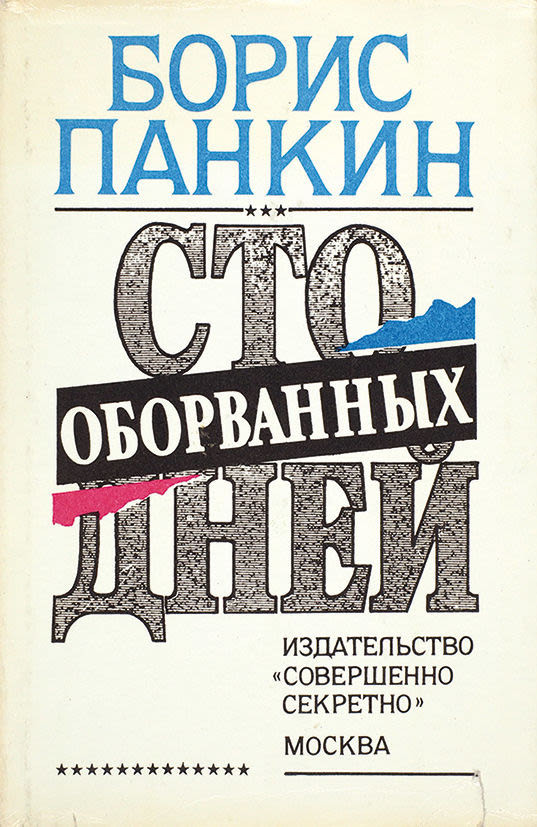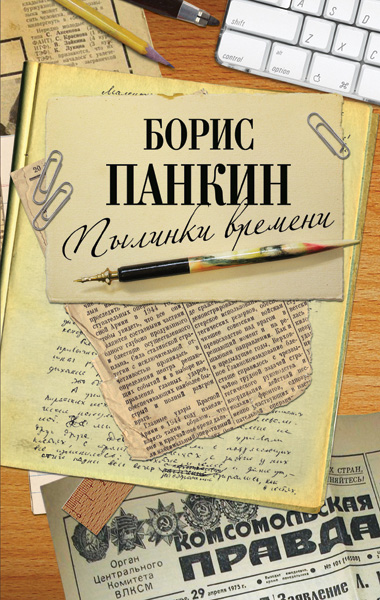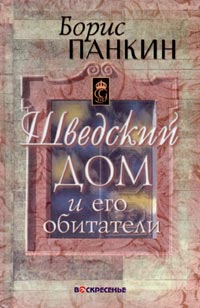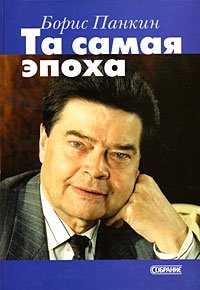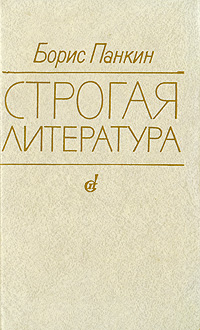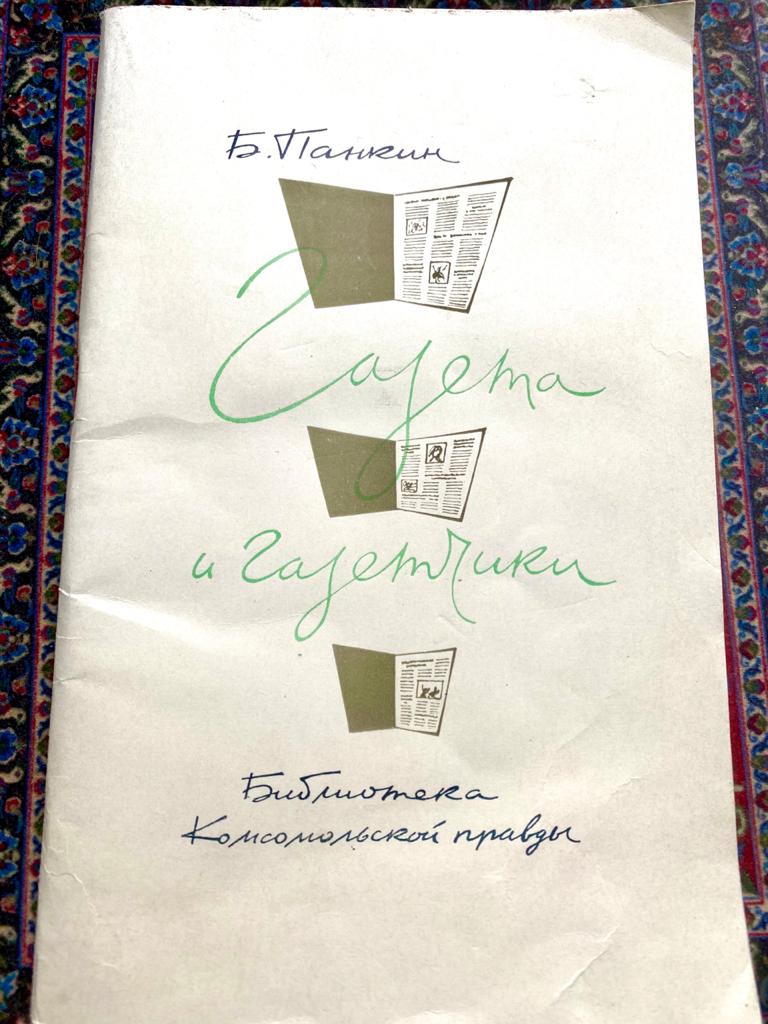Зачем лукавить? – если бы не приближающаяся юбилейная дата Бориса Дмитриевича Панкина, редактора, посла, министра, вряд ли я, при всем почтении и душевной и интеллектуальной близости к этому человеку, вернулся бы к его книге, появившейся первым своим изданием в далеком 1980 году, к книге, где он выступает в роли, не менее, а может быть, более ему органичной, нежели роль государственного деятеля и дипломата, — в роли литературного критика.
Но вот, повод случился, и мне остается лишь благодарить за это судьбу, принявшую в данном случае облик Алексея Панкина — сына автора книги- нынешнего бенефицианта.
Легкий озноб – ожидания? предчувствия? возвращения в давно минувшие годы? – охватывает при чтении первой же – в буквальном смысле – строки:
«Журнал «Вопросы литературы» длительное время вел дискуссию о проблемах современной прозы. Потом начал обсуждать взаимоотношения литературы и научно- технической революции».
Но ведь именно тогда, на рубеже 60-х-70-х годов минувшего столетия, я начинал свою, на годы растянувшуюся службу в этом самом журнале, и принимал непосредственное участие в организации обеих названных дискуссий, втянувших, к слову, в свою орбиту, наряду с литературой, кинематограф и театр. Это была служебная обязанность, но также счастливая возможность тесного общения с людьми, иных из которых я и прежде знал неплохо, а иных шапочно, а кое-кого не знал вовсе, разве что по имени – с режиссером Олегом Ефремовым и писателем, актером и тоже режиссером Василием Шукшиным, драматургом Валентином Черных и артистом Георгием Тараторкиным, академиком Станиславом Шаталиным и публицистом Анатолией Аграновским, космонавтом-инженером Константином Феоктистовым и одним из крупных, как их тогда называли, командиров питерского (то есть, в ту пору, конечно, ленинградского) производства Георгия Кулагиным – редакция нарочно, ради восполнения, так сказать, рельефа местности, приглашала за один стол людей слова или сцены с людьми дела. Хочется длить, не обрывать этот перечень, увы, более похожий теперь на мартиролог…
Так как же не вздохнуть ностальгически по временам молодости с ее ожиданиями, в основном, не сбывшимися? И как не порадоваться капризам календаря и – повторюсь – не выразить признательность судьбе, предоставившей напоследок такую возможность?

Но это, в конце концов, мои личные переживания и события моей личной биографии – кому они могут быть интересны, кроме меня самого и круга друзей- сверстников и товарищей по литературным занятиям, который – круг — как шагреневая кожа, все сжимается и сжимается?
Однако же, продвигаясь неторопливо по тексту пространного вступления к книге, я останавливаюсь на последней его (вступления) строке, где автор объясняет, отчего героями ее выбраны именно те писатели, о которых идет в ней речь: Чингиз Айтматов, Валентин Распутин, Юрий Трифонов, Василий Шукшин, Федор Абрамов, Даниил Гранин, Виктор Астафьев, Георгий Троепольский, Михаил Рощин, Александр Гельман и еще два-три лидера так называемой «производственной» драмы, или, по определению автора, драмы «третьей волны.
И снова меня относит назад, но на сей раз уже не в одиночестве и даже не просто в тесном окружении тех, кому в описываемое литературное время было сначала двадцать, затем тридцать и в конце концов сорок лет. Целая эпоха, полвека, а то и больше, с той поры минула, сколько вод утекло под мостами, да что там говорить, целая страна исчезла. Пришли иные времена, взошли иные имена… Но ведь страна-то, подобно Атлантиде, верно, может погрузиться на дно океана, однако следы, рассеянные на и над поверхностью тверди и вод, остаются, атмосфера, пусть и в сильно искаженной, и не всегда заметной форме, сохраняется, и без оглядки в прошлое не различить и настоящего. Вот это прошлое, не успевшее стать прошлым, существующее в самой острой своей актуальности, Борис Панкин и воссоздает – приметливо, точно и… строго – о смысле этого определения я еще скажу два слова. Нет, книга его, сложившаяся из журнальных и газетных статей, а порой дневниковых записей – это не история художественной эпохи, даже не эскиз ее, и не портретная галерея, это было ясно в пору ее первого свидания с читателем, ясно и теперь. Иначе здесь непременно должны бы встать крупным планом фигуры – беру почти наугад — Юрия Казакова, Виталия Семина, Фазиля Искандера – разве это не строгая литература? Но, повторяю, полноты Борис Панкин не ищет и к ней не стремится. Книга его — не картина, но карта, где прочерчены магистрали («деревенская проза», «городская», все та же «драма третьей волны»), а на них кружки: города- миллионники, то есть, самые яркие представители этих течений. Разве что «военной» литературы не хватает, и соответственно, ее мастеров – Василя Быкова, Григория Бакланова, Константина Воробьева, Вячеслава Кондратьева (Юрий Бондарев, один из ранних вожаков направления, к той поре уже отошел от прежних тем и прежней манеры письма). Во всем же остальном – свидетельствую, или, если угодно, лгу, как очевидец) маршруты проложены верно и фигуры расставлены безошибочно.
Но тут наступает самый патетический момент. Впрочем, оговариваюсь, пока еще не самый, но тоже существенный. Критик, описывающий то или иное направление, или течение или школу в литературе, всегда рискует за повторяемостью (тем, приемов, характеров) упустить неповторимое, за единством — непохожесть, словом, все то, что, собственно, и делает писателя писателем, а литературу литературой – миром под переплетом, то есть, другим миром, совершенно не тем, в котором мы живем и к которому привыкли. Порой расстояние между одним и другим тянет сократить, порою соблазняет магия общих мест, и ничего хорошего из того не выходит — это я знаю по собственному, порою весьма печальному опыту.
И Борис Панкин тоже, разумеется, знает: «В перечнях имен и названий, в калейдоскопе… определений нередко пропадает ощущение ценности той или иной вещи». Знает, и елико возможно, старается избежать обобщений, памятуя о том, что подлинный мастер – сам по себе направление. «Деревенщик» Абрамов похож не на «деревенщика» Распутина, а на самого себя. А Трифонов, напротив, не похож на Шукшина вовсе не потому, что один пишет о горожанах, а другой о персонажах, застрявших на пути из деревни в город. Разве что индивидуальность Гельмана и других, некогда популярных, а ныне ушедших в густую тень театральной истории драматургов «новой волны» (Дворецкого, Бокарева) Борис Панкин, на мой взгляд, явно преувеличивает — они-то как раз разве что не близнецы.
Неторопливо и пристально читает критик ныне покрывшиеся пылью лет, а тогда только что сошедшие с печатного станка книги, напряженно вглядывается в лица своих героев-писателей и в лица их героев- персонажей романов, новелл, пьес, много и подробно пересказывает, прослеживает сюжетные и композиционные ходы, много, в духе старых, еще Х1Х века, мастеров жанра цитирует – и я опять-таки испытываю благодарное чувство к автору, погружающему меня в литературную атмосферу давних лет, когда все эти книги и их сочинители были и моей повседневностью.
Но вместе с благодарностью шевелится беспокойное и даже тревожное чувство – вот он, тот самый патетический момент, о котором заикнулся было, да отложил на время разговор. Возвращение в молодость – занятие, верно, славное и увлекательное, но и небезопасное: времена изменились, и с ними изменился ты сам, и еще большой вопрос, в лучшую ли сторону, а еще больший вопрос – достанет ли трезвости взглянуть на прошлые оценки и прошлые слова глазами читателя того, а не этого времени. Попросту говоря – не слишком ли отчетливую мету оставили на страницах «Строгой литературы» годы, которые принято называть эпохою застоя, не слишком ли много в ней, ну, скажем так, партийности. И в таком случае – не осталась ли она в своем времени, и ныне сохраняет интерес лишь как его примета? Тревога и вообще-то, на мой взгляд, законная, а учитывая командные или близкие к ним высоты, которые занимал, сочиняя свои статьи, автор, – тем более.
Сейчас, перелистнув последнюю страницу книги, я выдыхаю с облегчением. Да, конечно, есть там вышеназванные приметы. И ссылки на партийные съезды есть, и развитой социализм, и «простой советский человек», и даже сочетание «социалистический реализм» два-три раза мелькает (хотя какой уж там «социалистический реалист» из Шукшина или Трифонова? –с понятным недоумением спросит современный читатель – так то современный). Что ж, ритуал есть ритуал, он требует дани, дивиться не следует, а если все-таки дивиться, то тому, в сколь малых дозах эта дань уплачена. В целом же «Строгая литература» — это реальная критика в том высоком смысле, какой вложила в него классика, от Белинского до Добролюбова, и чьи традиции были уже в ХХ веке, во второй его половине, продолжены и развиты прежде всего на страницах «Нового мира», в ту пору, когда редактировал журнал Александр Трифонович Твардовский — тогда его начинали читать с последних тетрадок, где как раз и печатались публицистические и литературно-критические сочинения. Не припомню за давностью лет, был ли среди авторов журнала Борис Панкин, но в моем сознании его имя и его перо принадлежит этой славной когорте. И укрепляет меня в этом убеждении не кто иной, как сам Твардовский, тепло откликнувшийся — в личном письме – на критический очерк Панкина, посвященный дилогии Федора Абрамова. Оценка такого читателя и такого редактора дорогого стоит.
Теперь, наверное, пора, как обещано, пояснить смысл названия книги, а заодно и смысл названия этих сильно запоздавших заметок на ее полях.
Сам автор, того не скрывая, оглядывается на Ярослава Смелякова с его «Строгой любовью», эту, по автохарактеристике, «повесть в стихах» — поэтическую биографию поколения романтиков – юных строителей нового общества. Иное дело, что написана эта повесть уже в начале 50-х годов, когда ранние очарования при соприкосновении с реальностью в немалой степени рассеялись и говорить о них приходится с усталой иронией и горьким вздохом по несбывшимся надеждам:
Мы заблуждались, юный брат,
В своем наивном аскетизме
И вскоре наш неверный взгляд
Был опровергнут ходом жизни.
Строки – не лучшие, отдающие назидательностью, но исповедальная правда утраты иллюзий в них есть.
Иными словами, строгая любовь это любовь зоркая. Но — любовь. И недаром, ссылаясь на поэта, Борис Панкин улавливает у него перекличку со словами, выговоренными на другом языке в другом месте и в другое время : «мужество – это видеть мир таким, каков он и есть и все же любить его»(Ромен Роллан).
Так сморят на мир писатели – герои, населяющие книгу Бориса Панкина, — любящим зорким взглядом. И так смотрит на них он сам, и потому критическое перо его – перо строгое. С автором можно соглашаться – как соглашаюсь я, читая страницы, посвященные, скажем, прозе Федора Абрамова или роману Даниила Гранина «Картина», — и можно не соглашаться – как не соглашаюсь я с ним во взгляде на трифоновского «Старика». Метания старого комкора, его, как пишет критик, «нервные срывы, истерия, непоследовательность в словах и действиях» кажутся Борису Панкину избыточными и художественно неубедительными. А мне, напротив, представляется, что «Старик» потому и сделался (по моему опять-таки убеждению) самой значительной вещью в художественном наследии Юрия Трифонова, что он с большой силой сумел запечатлеть в фигуре и душевном складе Мигулина драму переосмысления всего опыта прожитой жизни. Ту самую драму, которую современник, наиболее значительный, как мне кажется, поэт того же литературного поколения, которому принадлежит Трифонов, сбил в несколько пронзительных стихотворных строк:
Я строю на песке, а тот песок
Еще недавно мне скалой казался.
Он был скалой, для всех скалой остался,
А для меня распался и потек.
Выходит, все же не для всех.
И последнее. Строгая (или зоркая, или честная критика) еще и потому строгая, что она, будучи частью литературы, не пытается стать над ней. Она, вспоминая одного классика, вненаходима, и, перефразируя другого, любит не себя в литературе, а литературу в себе. Такая любовь сейчас в большом дефиците, и я сильно подозреваю, что давняя книга Бориса Панкина пришлась бы при нынешней литературной погоде не ко двору. Но это – своя тема.
А я – я, не устану повторять, рад, что случай помог мне, полжизни спустя, вновь ее открыть.