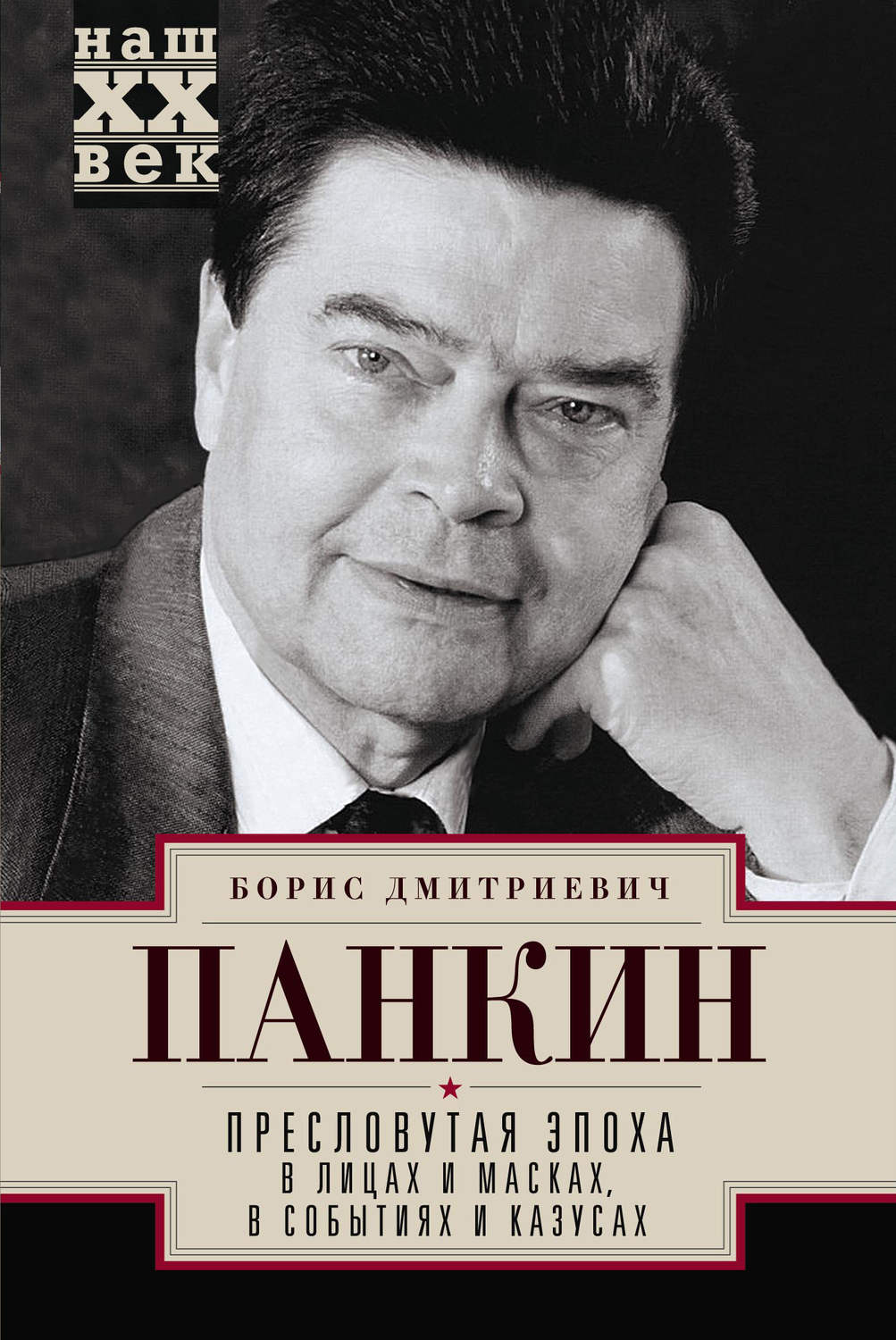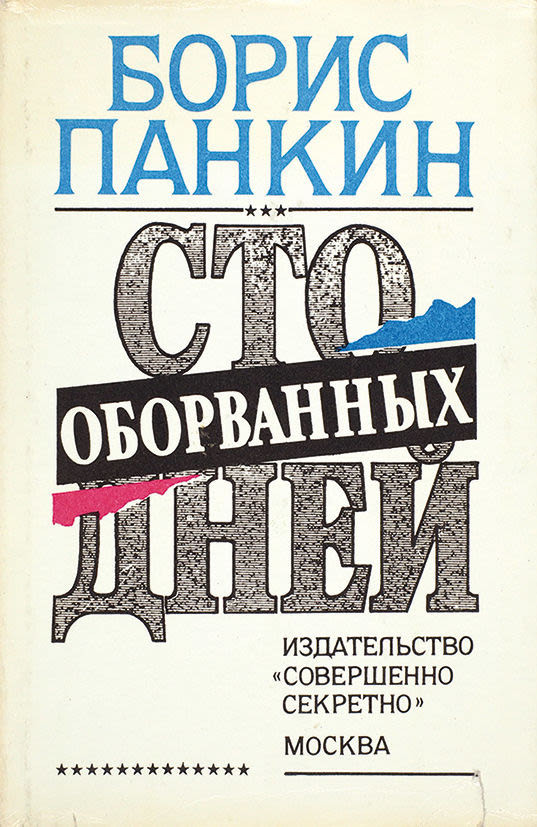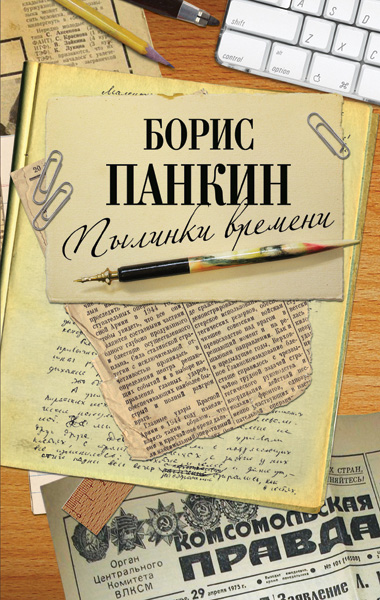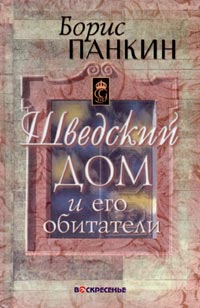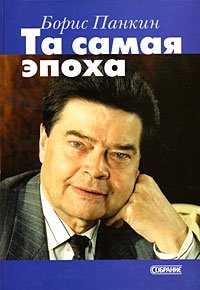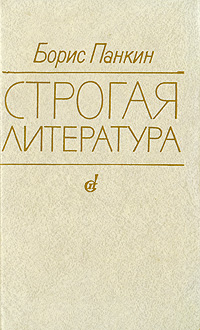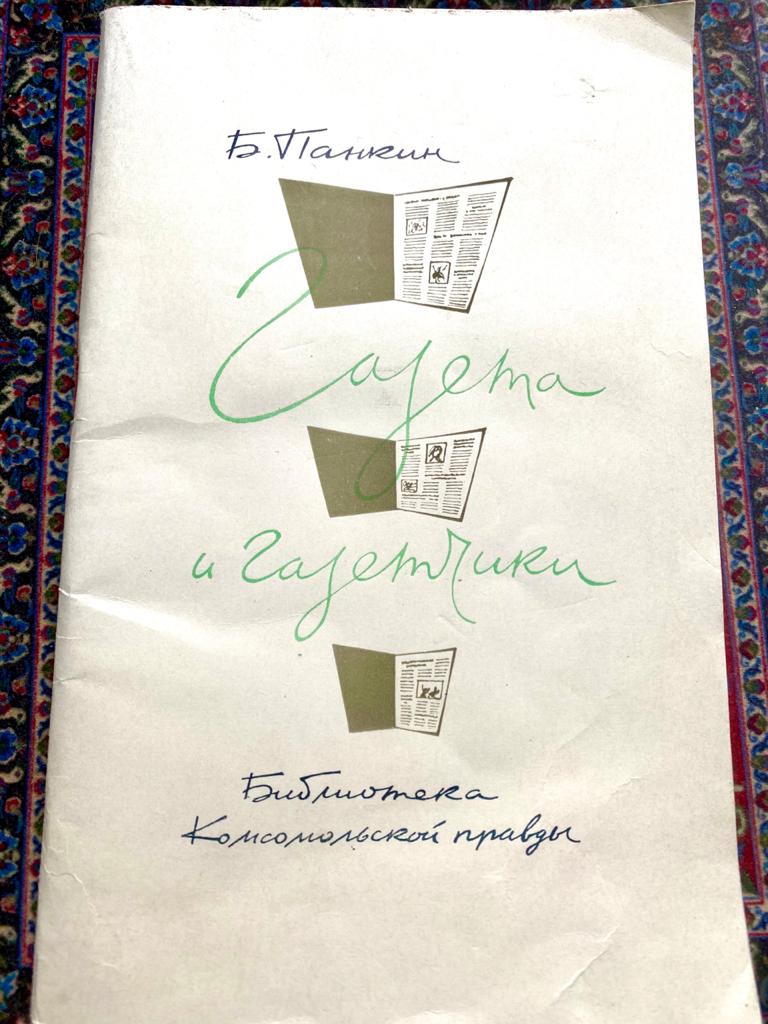Размышляя о чужих мемуарах, чаще всего пишут о себе.
У меня вроде бы оснований для этого нет.
Во-первых, Борис Панкин старше меня на целое поколение, а это в наш шустрый век более, чем много. Во-вторых, вполне такой действенный социальный лифт советской поры вознёс его, сердобского пацана, в такие залы и на такие крылечки, куда попадал я нечасто и только в гостевом статусе.
Однако, переворачивая очередную страницу книги со стилизованным под архаику названием «Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах», всё более и более проникался я ощущением близости и вовлечённости в описанный автором мир людей и событий.

Для начала самое простое. Приведу из книги фрагмент выступления Бориса Панкина перед академической аудиторией в британском Манчестере:
«Хороша была Октябрьская революция с ее советской властью или плоха, не будь ее, мои родители, крестьянин с Волги и купеческая дочь с Урала, конечно же, никогда бы не встретились и я, в моем нынешнем образе, никогда бы не появился на свет.
И то же самое могут сказать о себе миллионы людей».
Вот и я один из этих миллионов. И география близка: дед мой по матери крестьянский сын, а потом кузнец Сталинградского тракторного, дед по отцу – машинист паровоза с Южного Урала, а познакомились родители в Москве на студенческой скамье, и я мог родиться в Киеве, куда их направляли по распределению, и стать украинцем, мабуть щирым (во что не верю), но выбран был другой путь, и в тектонический разрыв никто из нас не попал.
И ещё одна цитата всё из того же выступления:
«Мы рождались и росли, даже в таких семьях, как моя, а их было множество, с почти автоматическим признанием всего того, что нас окружало, в качестве нормы».
Повторю, что нас с автором разделяет целое поколение: мой безвременно ушедший отец всего на четыре года старше Бориса Дмитриевича, но приведённые слова верны и для моих сверстников. И, похоже, мы последние, для кого это верно.
Нынче спорят, хорошо это или плохо, и либеральные мыслители настаивают, что критичное отношение к окружающей действительности чуть ли не с ясельного возраста – основа для формирования личности и гражданина. Но здесь я безусловно с Панкиным, и полагаю, что для бунтарства свой возраст, а в детстве важней всего ощущение защищённости и спокойствия.
Я благодарен родителям и их родителям, что они смогли нам это дать.
Причём, не скажу, что судьбы их складывались легко. Дед-волжанин был сыном крепкого середняка, который в конце двадцатых провидчески выставил детей в пролетариат, а сам попал под молох раскулачивания. Второй дед, у которого я провёл младшеклассником три года после скоропостижной смерти отца, воспитывавший меня библейскими притчами, в 37-ом был взят как враг народа и должен был быть убит, но послабления, связанные с именем Лаврентия Берия, открыли двери казематов и, сломав биографию, оставили ему жизнь и возможность немного воспитать меня.
И здесь судьба семьи Панкиных кажется для меня близкой, как и судьбы многих миллионов семей.

Посол СССР в Швеции Борис Панкин с Министром иностранных дел СССР Андреем Громыко 
Посол СССР в Чехословакии Борис Панкин с Александром Дубчеком и Борисом Ельциным 
Министр иностранных дел СССР Борис Панкин с королем Испании Хуаном Карлосом
Когда в нулевых были оцифрованы архивы и впервые в свободном доступе оказались «расстрельные списки», я нашёл своего деда в перечне оренбургских железнодорожников, безо всякого суда приговорённых к «репрессии первой категории», читай, расстрелу. На титульном листе после размашистого И.Ст красовалась подпись «железной сталинской задницы» Вячеслава Молотова. Подсчитано, что подписал он 372 таких списка, больше, чем Сталин, и двукратно в сравнении с ещё двумя подписантами Ворошиловым и Кагановичем.
И можно представить, с каким чувством читал я воспоминания Бориса Панкина о встречах на жуковских дорожках с этим дачным соседом. И особенно о реакции Молотова на вопрос сына Бориса Дмитриевича Алексея:
«Сыну не терпелось расспросить о прошлом. Его потрясло то, что, когда он упомянул о массовых репрессиях, Молотов переспросил буднично, без эмоций:
— Какие репрессии? У вас цифры?
— Да как же? — чуть было не поперхнулся втянутым вовнутрь воздухом Алексей. — Все же знают…
— Вот именно, — парировал человек, чья подпись стоит под тысячами и тысячами смертных приговоров. — Все знают. А где проверенная статистика?»
И далее с убеждённостью, не оставлявшей верного сталинца до конца дней:
«Если бы не было так называемых репрессий, мы бы войну не выиграли».
Подобная зацикленность на замшелых догмах была присуща далеко не только сталинским наркомам, но и тем, кто управлял страной в куда более вегетарианские времена, что очень точно показывает Борис Панкин, вспоминая о контактах, к примеру, с главным цензором позднего СССР Павлом Романовым, секретарём ЦК Дмитрием Полянским, «вторым человеком» в партии Михаилом Сусловым, да и с самим Генеральным Секретарём товарищем Леонидом Ильичом Брежневым.

И скажу, что будь я непредвзятым читателем с абсолютно девственным понятием о советской истории, после заметок Бориса Панкина о внутренней кухне горних сфер той поры уже не задавался бы вопросом, почему рухнул могучий и, казалось бы, вечный Советской Союз. И далеко не первая роль в этом главного обвиняемого в развале Михаила Горбачёва, о котором столь же нелицеприятно, но без всякой злости пишет автор.
И здесь самое время привести творческое кредо Бориса Панкина в отношении описываемых им персон, которое он сформулировал так:
«Выход один — …еще более скрупулезно следовать взятому на себя обязательству — о ком бы речь ни зашла, касаться только личных впечатлений, рожденных непосредственными… (ох, не люблю это словосочетание, но, кажется, здесь его ничем не заменишь) пересечениями с персонажем.
И второе: идти не столбовой дорогой, а проселками. То есть, игнорируя программы, речи, широковещательные заявления и демонстративные жесты, касаться преимущественно маргинальных (еще одно ненавистное словечко) подробностей…»
Именно такой подход и делает заметки о деятелях советской и постсоветской эпохи, как отечественных, так и зарубежных, таких как баронесса Маргарет Тэтчер, лидер «пражской весны» Александр Дубчек, легендарный шведский премьер-миротворец Улоф Пальме – особенно интересным и важным.
И ещё одна фраза, употреблённая автором мимолётно в отношении конкретного персонажа, но заставившая меня из практически финала повествования вернуться чуть не к началу:
«В бочке меда, в которой долго купали Ельцина пресса и молва, всегда находилась ложка дегтя, которая прежде всего останавливала мое внимание».
И дело тут не в Ельцине и не в ком бы то ни было. Дело в неубиваемом ни при каких должностях журналистском профессионализме, который в полной мере демонстрирует посол Панкин. Когда кого-то клеймят хором, настоящий журналист обязательно займётся поиском обстоятельств, опровергающих хоровое пение. И наоборот, в потоке льющегося в чей-то адрес елея искать позицию более взвешенную и объективную. Ту самую ложку дёгтя в бочке мёда.
А теперь о том, что надо было сказать в самом начале. Книга «Пресловутая эпоха», если обратиться к кулинарным сравнениям, не похожа ни на один шведский пирог (отдадим должное стране, где автор прожил треть своей долгой жизни), с одной, как правило, начинкой, а на славянский курник со множеством перемежающихся слоёв, каждый из которых по-своему вкусен, но непохож на другие.
Снизу в основании пирога – воспоминания о детстве на московской окраине и «на мысу» в хуторских лесных постройках на берегу речушки Сердобы. Вот уж поверил я интернету, что он знает всё, и стал искать значение слова «труски», которых поела кошка бабушки юного Бориса, за что пострадавший «трусковладелец» собирался хвостатую преступницу казнить, да ушёл несолоно хлебавши, или вернее, отхлебнув поднесённое хозяйкой. Не помогла всемирная паутина, и только давние познания подсказали, что трусами прозывали зайцев-кроликов, и соответственно труски – это должно быть крольчата.
История эта из отрочества автора впечаталась в память, по его признанию, навеки как опыт успешных переговоров в конфликтной ситуации, своеобразный опыт низовой дипломатии.
Или ещё один памятный случай, когда в вынужденном одиночестве провожая на фронт своего родного дядю Васю, совсем ещё мальчонка Борис попытался и произнёс, наверное, какие-то высокопарные сентенции, которых потом он стыдился, и это, как часто бывает в детстве, сформировало пожизненную аллергию к громким словам.
И в продолжение сердобской темы, уже не из детства, а с людьми из детства, через карьеру, через историю, через жизнь письма человеку из верхов, министру и послу от двоюродной сестры Жени, обитавшей в той самой народной гуще, по которой катком прошлось ельцинское десятилетие.
Посол, но в первую очередь журналист Панкин, осознавая, что в отдельной стране Московии жизнь на порядок сытней и краше, чем в российской глубинке, опубликовал одно из писем в «Московских новостях» и ждал реакции, но не дождался. Чтобы понятно, о чём речь, приведу фрагмент письма из книги:
«…Пенсию получаю мизерную. Из этих денег треть идет на коммунальные услуги. Продукты дорогие очень и все цены повышают. Очень дорогой проезд стал и небезопасный. Едешь из наших Подлипок в Москву и думаешь, благополучно ли доедешь. Боимся всего. Даже днем боимся. Стариков убивают или заставляют подписывать квартиры.
Разве я не могла бы одна на кладбище съездить? Боюсь теперь. Там бомжи живут. Утром одежду развесят и сушат.
Немного о деревенской жизни. Вася — главврач в Ульяновской области. Обслуживает восемь деревень и стационар. Я приехала к ним, а им два месяца не выдают зарплату. Поросят у них нет. Три кролика. Совсем невыгодно стало держать свиней. Очень дорогой комбикорм. Он теперь полностью хочет переключиться на пчеловодство. При мне смотрел ульи. Три семьи погибло. У него очень вкусный мед.
Живя там, я как бы окунулась в старое время. Как раньше крестьяне в фартуках несли в знак благодарности. При мне старик принес: кусок сала копченого и свежесбитого масла комочек. Потом бидон молока принесли, и бабуля старенькая в фартуке семечек от тыквы.
Спрашиваю ее:
— Бабуля, зачем ты это принесла?
— Как же, милая девонька, Василий Михайлович меня от давления вылечил.
Вечером говорю:
— Взятки берешь?
— Эх, крестная, ты бы знала, как мне тяжко работать. Зарплата три тысячи. Лекарств нет. У меня даже бумаги нет рецепты выписывать. Всякими правдами и неправдами достаю лекарства. Иногда свою зарплату трачу.
Смотрю, а у него в глазах слезы».
Обошёлся бы слоёный пирог Бориса Панкина без этой горькой составляющей, благо в середине столько наивкуснейших историй о близких встречах с такими легендарными личностями (политиков опускаем!), как Юрий Гагарин, Астрид Лингрен, основатель концерна ИКЕА Ингвар Кампрад и прочие, прочие, прочие.
Нет, думаю, не обошёлся бы.
Потому что, невзирая на все перипетии его судьбы, он был воспитан журналистикой, ещё той, растущей из-под глыб, с аллергией на пафосные словеса, с кодексом чести, умением добиваться правды не мытьём, так катанием. И ещё здоровым цинизмом по отношению к насаждаемому партийной средой двоемыслию и умением не преступить черту. Недаром так нравятся ему слова известного фельетониста тех времён Леонида Лиходеева: «Самое плохое, когда хорошо делают то, что вообще не надо делать».
И совершенно закономерно, что журналистская составляющая воспоминаний по ощущению опережает и дипломатическую, и чиновную, и даже личную. Потому что без неё не было бы, пожалуй, и всего остального: ни встреч с Гагариным, ни погружения в писательскую среду, ни поступков на международной арене, когда посол в Чехословакии Панкин единственным среди коллег официально заявил о неприятии августовского путча в России.
В те почти былинные времена, когда Борис Панкин почти бегом поднялся на одну из высших ступеней отечественной прессы, удержаться на этой ступеньке было непросто: главреды были под обстрелом, и чтобы уцелеть, не потеряв лица или чего похуже, требовалось беспрерывно отыгрывать партию в трёхмерных шахматах. Как вспоминает автор об одной из громких публикаций о зарвавшемся высоком и знаменитом начальнике:
«Это при Ельцине власть сделала открытие, что самый надежный способ реагировать на критику и обличения в СМИ, если даже они непосредственно касаются чести и достоинства высших лиц в государстве — не обращать на них внимания.
В ту же пору партийные и советские бонзы страдали другой болезнью — каждое слово критики, касавшееся их епархии, будь это завод, институт, колхоз, район или целая Украина, — они воспринимали как личное оскорбление и очертя голову бросались опровергать критику и преследовать критиканов».
И можно себе представить, да что там можно, я прихватил краешком те времена и видел, как оскорблённые властители землю носом рыли, чтоб уличить журналиста даже не во вранье, а в неточности, или хуже – обвинить в каком-нибудь злоупотреблении, бросающем тень на «облико морале» расследователя или допустившего публикацию редактора.
Можно иронизировать над великой дилеммой, упоминать или нет фамилию партийного секретаря в критическом материале молодёжной газеты, как это было в описываемой автором истории с начинающим литсотрудником калужской газеты Булатом Окуджавой, но очень уж редки случаи, когда нынешние свободные от подобных дилемм журналисты поднимают действительно значимую тему, зря, что называется, в корень.
На смену журналистике, обложенной рогатками, зашоренной, но ответственной не только за слово, но и за его последствия, пришла другая, внешне свободная, но зачастую ещё более сервильная, как об этом пишет Борис Панкин:
«Одеяло оттянули на себя политики и так называемые политологи. Одни действуют сплошь и рядом неуклюже, дилетантски, эгоистически и амбициозно, а другие торопятся объяснить и оправдать их художества. И всем кажется, что вполне можно обойтись без сокровенного слова, замешанного на боли, настоянного на совести, обеспеченного мудростью и опытом. Оно даже мешает, когда все-таки звучит».
И Запад, который в советские времена представлялся носителем свободы и света, оказался далёк от «сияющего града на холме». в том числе и в журналистике. Автор вспоминает интервью, запрошенное обозревателем «Радио Свобода» Владимиром Тольцем, но так и не попавшее в эфир, потому что воззрения собеседника не вместились в жёсткий трафарет, который для него был подготовлен.
«Немало было позже случаев убедиться, что и западному человеку свойственны многие из тех комплексов, предрассудков, фобий, которые мы в своем советском далеке с чисто российским самоедством твердо числили за «совками», отвратительное слово, которое я, кажется, употребляю публично первый раз», — и это слова не только о журналистике, но и о широком окружении посла, а потом и просто частного шведского жителя с громким именем.

И напоследок о языке.
В книге он разный. Чуть более официальный, когда речь о встречах в высоких кабинетах, ярче и проще в историях о ярких личностях или о родных и окружении. Но в одном фрагменте о фантастической любви 14-летней девочки Агнессы, дочери венгерского революционера Белы Куна и венгерского же поэта Антала Гидаша, который был на пятнадцать лет старше, и через два года они поженились, и пронесли свои отношения через расстрелы и тюрьму, текст превратился в поэзию:
«Мы увидели их впервые на ступенях парадной лестницы оперного театра. По окончании представления. Долго проталкивались к ним, ведомые за руки быстрым и дерганым Миклошом сквозь нарядную и шумную театральную толпу, но когда приблизились, показалось, что никого вокруг нет — только они двое, очерченные неким исходящим сиянием. Это видение и сейчас стоит у меня перед глазами, хотя привести какие-то детали внешности того и другого в тот момент, честно признаюсь, не могу.
Но думаю, что Агнесса была, как обычно, в одном из своих любимых одноцветных платьев — темно-голубом или ярко-красном scarlet, по-английски, цвет Византии. Длина по моде, которая никогда не устареет — чуть-чуть ниже колен. Стройные, как будто обойденные временем, ноги в телесного цвета чулках и туфлях-лодочках на высоких каблуках. Черные, с блеском, как вороново крыло, волосы, облегающие голову словно туго натянутая резиновая шапочка. Все — для Гидаша. И ухоженные руки с длинными ногтями, над которыми она могла, когда условия позволяли, сидеть часами. И эта всегда одна и та же, и всегда «с иголочки» прическа…. И тот же запах тонких французских духов.
Агнесса уже держала в руках накидку. Точно в тон тому платью, которое на ней было. А Гидаш был в плаще. Тут уж не спутаешь. В его любимом, как мы позднее убедились, и потому единственном темно-синем габардиновом плаще. Я потом увидел его в этом плаще на обложке только что вышедшей книги стихов «Утро весеннее, тополь седой…» Сильный ветер развевает полы этого плаща, застегнутого на одну верхнюю пуговицу, завивает снежным вихрем белый шелковый шарф, треплет непокорную шевелюру».
Василий Балдицын, провинциальный журналист