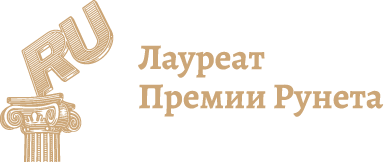Галина Щербакова: «После смерти Шукшина Лидия Федосеева хотела уйти в монастырь»

Галина Щербакова: «После смерти Шукшина Лидия Федосеева хотела уйти в монастырь»
Фото: РИА Новости
«Комсомолка» публикует фрагменты воспоминаний одной из ее подруг, писательницы Галины Щербаковой, скончавшейся полтора года назад. Книгу мемуаров автора повести «Вам и не снилось», которая выходит в издательстве «ЭКСМО», подготовил к печати супруг писательницы, Александр Щербаков, - с его разрешения мы и публикуем эти отрывки.
«Я ПЕРЕДОИЛА ВСЕХ КОРОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
Проходили пробы к фильму «Вам и не снилось»...
- А как вы относитесь к Шукшиной? - спросил Фрэз. - Если предложить ей роль Веры?
...Мысленно, в душе, я уже потихоньку примеряла на нее роль. Мне то нравилось, то нет. Например, смущала красота. Моя Вера - женщина тусклая, эта же... С такими, не любя, не живут. Однажды вдруг успокоилась. Чего маюсь? Актриса не дура, ни за что на отрицательную роль не согласится. Так ясно услышался ее отказ, что просто легко стало. Она и не подходит, и откажется, и никто никого не обидит.
Шукшина же, к моему удивлению, просто вцепилась в сценарий. Она сказала так:
- Все, хватит! Я передоила всех коров Советского Союза и хочу в кино совсем другого. В конце концов - почему все время деревня? Я ведь ленинградка, городская косточка!
Клянусь, я не помню больше ни одной актрисы, пробующейся на роль Веры. Были ли они? Видимо, были... Но я продолжаю слышать этот голос...
Шукшина невероятной прочности пуповиной связана со своим голодным детством. Детство было нищим. Но тут не скажешь - все жили плохо. Семья Федосеевых жила хуже плохого. Один кормилец, четверо иждивенцев. Кормилец выпивал. Надо было сводить концы с концами - они не сводились... Ее позвала к себе одноклассница. Уже не помнится, зачем. И с Лидой случилось - скажем так - Ошеломление. Пусть будет с большой буквы. То состояние было весьма великим. Оказывается, точно такую квартиру, как у них, в которой живет шесть семей, может занимать одна семья из трех человек. Зеркало, натертый пол, небрежно лежащие детские красные перчатки. Нереальный мир. Его хотелось потрогать руками. Она взяла перчатки.
- Я их украла. Вот украла - и все,- рассказывает она, и два горячих пятна вспыхивают на ее щеках. - Ну не знаю, зачем. Не знаю...
«РАЗВЕ ТЫ НЕ УМЕРЛА?»
Потом, уже в институте, секретарем комсомольской организации будет Вася Шукшин, и она шарахнется от него. Откуда было ей знать, молоденькой, что ничего не могло быть общего у этого парня с теми, кто ее не принимал в школе. Что он был из «ее команды». Но внешняя суровость и занимаемая должность сделали свое дело.
- Я его терпеть не могла!
Рубежным годом стал шестьдесят четвертый. Ее пригласили сниматься в фильме «Какое оно, море?». Уже перед самым отъездом на съемку узнала, что будет играть в паре с Шукшиным. Передернулась. Нет, конечно, были уже «Два Федора» и «Живет такой парень», но было и то воспоминание, институтское, от его секретарской должности. Не тот он был человек, чтоб она могла ему обрадоваться.
Вечером группой сбились в купе, пели, смеялись. Шукшин пришел к ним из вагона СВ. Он был уже на другом уровне кинематографического существования.
- Что-нибудь почувствовала?
- Абсолютно ничего! Он опаздывал на поезд и бежал по перрону совершенно дурацки... Он вообще бегал смешно... Ему это не шло... Посмотрела - мужик бежит не по-людски, а в кармане зубная щетка. Мне все ясно... Потом пришел в купе... Мы пели... Он сел и замер... (...) В купе я пела «Калина красная, калина вызрела...». (...) Всю ночь проговорили. Вернее, я говорила, а он слушал. Все до мелочей расспросил...
...Какой она пришла к Шукшину? Абсолютно неустроенной. Быт, профессия, состояние души - все было на нуле. Он ей сказал: «Ну все... Возьми деньги, купи что там надо и оставайся». Она пошла и купила матрац, подушку, белье. Он ведь был почти богач. Имел кооперативную квартиру в Свиблове. Спали молодые на полу. Но какое это имело значение?
«С подушки» начался самый прекрасный период в ее жизни, самый наполненный, самый щедрый... Ее же убивала и неуверенность в обретенной крыше - жили-то «невенчанные». И то, что работы так и не было... И то, что Вася тогда еще пил. Она знала, что это такое. У нее пил отец. Вроде получалась повторяемость жизни, от которой ни-ку-да! Но уже понимала - ночью на кухне работает талант, убить хотелось дружков, которые гремели в прихожей бутылками. Жизнь шла комковатая, неоформленная.
Через три года кто-то из однокурсников при случайной встрече задаст ей простодушный вопрос:
- Ба! Это ты? Разве ты не умерла?
«АГРАНОВИЧ ВЕРНУЛ МЕНЯ С ТОГО СВЕТА»
«Лежала, как мертвая», - вспоминает ее мама о том страшном октябре 1974 года.
- Не как, а мертвая, - твердо говорит Лида.- Все было кончено. Я даже думала о монастыре.
Спасение - как спасение это осозналось много позже, потом - пришло прозаически в образе бывшего однокурсника Сергея Никоненко. Сергей собирался снимать фильм «Трын-трава» и считал, что никому, кроме Шукшиной, не сыграть героиню. Он пришел падать ей в ноги.
- Я ему до смерти буду благодарна. Но сначала я решила, что он спятил. Какая роль? Какая съемка? Про что он говорит? А он, как панфиловец, стоит - и ни шагу назад. Был разговор двух ненормальных...
Лида вернулась из смерти. Надо было подымать девчонок, зарабатывать деньги, надо было хлопотать о Васиных книгах, одним словом, надо было впрягаться в повозку.
До сих пор она с благодарностью вспоминает ту группу фильма. Сережу, оператора Мишу Аграновича, с которым ее свяжут долгие годы сначала преданной и нежной дружбы, а потом и любви. (...)
«ЕСЛИ БЫ ВАСЮ ПОХВАЛИЛИ РАНЬШЕ, ОН БЫ ДОЛЬШЕ ПРОЖИЛ»
...У нее целая теория:
- Если бы Васю хоть кто-нибудь похвалил чуть раньше, он бы дольше прожил. Людям надо говорить хорошие слова... Людей надо хвалить. Как нас, ничего не умеющих, хвалил Герасимов. И мы - точно, точно! - делались лучше, талантливей... Нет, объясни мне, почему сейчас все друг друга ненавидят? Конечно, добро - это трудно. Но зла-то, зла можно не делать? Это не я. Это Вася говорил. Правильно говорил.
- Он еще говорил: «Что я - идиот, всех подряд любить? Или блаженный?»
Задумалась.
- Любить, конечно, всех, может, и не надо. - С вызовом: - Думаешь, я всех люблю? Прямо-таки! Но... Жалеть надо всех... Неправых, может, даже больше... Они не ведают, что творят...
АВТОБИОГРАФИЯ
Я родилась в пору великого украинского голода. Чтоб сохранить дитя, бабушка отнесла в торгсин (государственная организация «Торговля с иностранцами», где можно было продать драгоценности) города Бахмута свои обручальные кольца и купила на них манку. «Потому ты жива».
Совсем в другое время моя тетка, важная государственная чиновница, сказала мне, что все это чепуха. Во-первых, не было никакого голода. Во-вторых, откуда могли быть кольца в семье скромного и многодетного бухгалтера? В связи с этим естествен вопрос: родилась ли я? Если нет целого и главного, разве может существовать малая толика? Видимо, отсюда иногда моментами возникает ощущение отсутствия меня в этом мире. Бабушка в таких случаях взмахивала на меня полотенцем, а дочь щелкает у меня перед глазами пальцами: «Ты меня слышишь?» Еще как слышу, дочь моя. Лучше, чем обычно. Но зачем ей об этом знать? До «радости иного присутствия» — синоним отсутствия — она дойдет своим путем. Или не дойдет... Как ей ляжет карта.
Когда в войну в наш город пришли немцы, мама не отдала меня в школу из чувства глубоко здорового патриотизма. В результате мои однолетки учились грамоте и арифметике, а я смотрела сквозь штакетник, как они идут в школу. Благодаря этому поняла, что значит быть не как все. Потом пришлось перешагивать через класс, чтоб догнать сверстников и сходу нарываться на винительный падеж, который не давался пониманию. Он был, как две капли воды, похож на именительный.
В семье тогда возникла тревожная мысль: не тупа ли я? Но женскую тревогу рубил на корню дедушка, который считал меня «умницей и красавицей» независимо от грамматических правил склонения. С тех пор я люблю его больше всех. Сейчас, когда я сама бабушка и бываю не уверена в способностях внучки, уже ее дедушка говорит, что она «умница и красавица». В эти минуты во мне что-то радостно трепещет. И я наконец понимаю, почему разошлась с вполне хорошим первым мужем: я инстинктивно выбирала своим внукам дедушку.

На районной комсомольской конференции я под треск барабанов выносила знамя школы. Это было ужасно-прекрасно, тем более что на меня смотрел один десятиклассник, который потом, вечером, снимал с меня варежку и до боли жал мою бедную голую руку.
Ничего лучшего в любви не было никогда.
Я рано, на втором курсе университета, выскочила замуж. Молодого, с иголочки, мужа-философа направили на работу из Ростова в Челябинск, и я, как принято у русских женщин, тронулась за ним вслед на верхней боковой полке плацкартного вагона. А была у меня вероятность поехать далеко-далеко другим маршрутом.
Видите ли, я сочла для себя возможным вступить в дерзкую переписку с самим товарищем Сталиным. Я написала ему резко и прямо, что нецелесообразно использовать выпускников философских факультетов в качестве преподавателей ПТУ. Думайте же, товарищ Сталин, своей головой, сказала я ему в письме. Кто же забивает гвозди микроскопом? Товарищ Сталин мне не ответил, но другие ответили мгновенно. Мне написали, что товарищ Сталин знает, как поступать с кадрами и со всеми остальными. И его решения обсуждению не подлежат. В семье зашевелился страх. Дело в том, что за «длинный язык» уже сидел по 58-й статье мой дядька. «Куда ж тебя черти несут!» — кричала на меня бабушка.

Странно, но когда через полгода великий и ужасный умер, я плакала горючими слезами.
Я боялась, что начнется война.
Недавно мне об этом моем страхе войны напомнила моя старая подруга. «Ты всегда боялась войны, а я этому удивлялась». Сейчас я могу сказать точнее: я боюсь войн, потому что это мы любим их развязывать. Это нам самое то. Я боюсь и стыжусь за целое, частью которого я являюсь.
...Я работала в школе учительницей русского языка и литературы. Была горда своим предметом, и мне нравилось «объяснять». Если бы школа состояла только из уроков, я бы могла из нее никогда не уйти. Но идиотии в школе было до самого верху, и я спрыгнула в газету. Если бы газета состояла из информации, очерков и застолий, я бы сроду из нее не ушла. Но идиотии в газете было выше верха. Главная идиотия называлась обкомом. Я не нравилась этому органу, и иногда он говорил мне это прямо в глаза. Обком: Ты не будешь работать в печати никогда! Мы перекроем тебе кислород! Я: На вас не кончается власть. Я напишу Хрущеву!
Нет, я не писала Хрущеву, но каков сам вскрик! Какова степень недоразвитости! Видимо, манка г. Бахмута не содержала всего комплекса витаминов. Ребенок вырос-таки «дуркуватым».
Чем это могло кончиться? Тем, что однажды я осталась дома и стала выяснять свои путаные отношения с жизнью на чистом листе бумаги. Десять лет муж — уже другой, не тот, которого обидел Сталин, — один кормил меня и двоих наших детей. Рукописи из издательств регулярно возвращались в почтовый ящик, сапоги уже не подлежали починке, а в моей голове заполошенно билась мысль: детям вредно иметь мать-неудачницу. Это хуже любой болезни.
И тогда случилось чудо — взлетела лежавшая под спудом в журнале «Юность» повесть «Вам и не снилось...», а кинорежиссер Илья Фрэз позвонил и сказал: «Имейте в виду — я первый» (имелось в виду, что он как бы получил право на экранизацию повести).
С тех пор я держусь на воде. Временами совсем хорошо. Временами совсем плохо. Как на качелях: вверх — вниз, вверх — вниз... Зато когда наверху, уже знаешь, что обязательно ухнешь вниз, когда внизу — знаешь, что взлетишь непременно. Сапоги покупаются впрок.
Как-то пришел малюсенький китаец, мой тамошний поклонник и переводчик. Я его кормила и жалела — такой у него был бедный китайский вид. Мне казалось, что это мой сын, причудливо, не от меня родившийся там. Я думала, что ему лет восемнадцать. Когда он уходил — я его почти несла на руках до лифта, — выяснилось, что ему 57. Я его уронила, а то, что он не разбился, это заслуга прочной китайской природы.
Открытие это сбило меня с радости, что меня читают так далеко. Исчезла радость и от письма из Австралии. «Дорогая Г-жа Щербакова!» — начиналось письмо. Михаил Сергеевич Горбачев тогда еще спокойно сидел в Ставрополе, и за «дорогую госпожу» вполне можно было схлопотать неприятности. Именно поэтому тогда мне все это было очень приятно. Теперь — увы! От господ спасу нет. Ими кишмя кишит, и хочется назваться иначе.
Не живу ли я как-то неправильно и мимо? Очень может быть... С точки зрения австралийцев — так вообще вверх ногами. В силу нервности моих поступков — то школа, то газета, то смена мужа прямо на переправе — я чуток припозднилась. Лет на десять... Или пятнадцать... Значит, надо исхитриться прожить на столько же больше. Тем более что иначе нельзя. Не успеть сделать, что надо. А надо вот что... Пять лет тому назад мой умница и красавец старший сын вместе с умницей и красавицей невесткой размешали в ведре славянской крови — украинской, русской и чешской — флакончик еврейской. Перемешав все это, они эмигрировали. Теперь у меня за границей трое красавцев-внуков: Алекс, Майкл и Даниэль.

Они не знают свою бабушку, и не будь у меня, кроме трех богатырей, еще и царевны-лягушки, внучки, которую подарила мне местная дочь, я бы, может, и спятила. А так — я стою, сижу, бегу, а главное, пишу. Держу в голове роман «История вашей бабушки», в котором я дам им всем прикурить. Чтоб знали про Бахмут...
...Про то, что никогда не надо писать письма вождям и прочим разным...
...что хорошо бы пожить какое-то время на севере, где девочки носят варежки...
...что ни за что и никогда не надо учиться стрелять и убивать...
...что они — умницы-красавцы — иногда, неожиданно будут улетать на небо. Такое у них славянское свойство.
Да мало ли что там я еще напишу, меня ведь определенно занесет... Недавно со своей подругой еще по Челябинску мы бродили по старой Москве и хохотали, как ненормальные. Мы вспоминали, как вместе ходили в баню с портновским сантиметром и измеряли друг другу стати. Похохотав, мы по закону качелей обе повыли в голос над тем, как быстро молодость прошла. А потом снова смеялись, вдруг сообразив, что у нее, у еврейки, внук — православный христианин, а у меня, православной украинки, внуки — иудеи.
Ну, разве не стоило ради такого сюжета сдать в торгсин кольца в пору великого голода?
Жизнь прекрасна и удивительна. А если Бог будет милосерден, то можно будет пережить еще и еще много всякого разного. Например, причуды двадцать первого века... Или как мы всем миром в очередной раз наступим на грабли. Это-то случится непременно! Или счастье рождения правнуков...
Ах, как хорошо и вкусно жить!
Спасибо вам, кольца, спасибо тебе, манка.